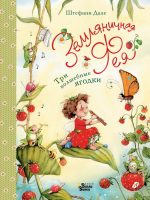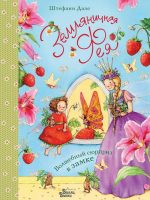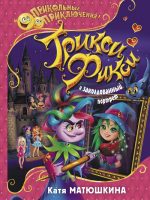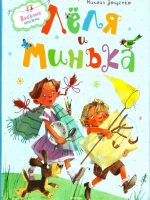Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Книга: «5 сказок о любви»
Чтобы открыть книгу нажмите ЧИТАТЬ ОНЛАЙН (180 стр.)
Текст книги:
В книгу вошли 5ть сказок:
— Дюймовочка
— Огниво
— Русалочка
— Пастушка и трубочист
— Стойкий оловянный солдатик
ДЮЙМОВОЧКА
Жила на свете одна женщина, и не было у нее детей. А ей очень хотелось иметь ребенка, но она не знала, где его найти. Вот пошла она к старой колдунье и сказала: «Мне очень хочется ребеночка; может, ты скажешь, где мне его взять?»
— Ну что ж, горю твоему можно помочь! — ответила колдунья
— Вот тебе ячменное зерно; это не простое зерно, не такое, как те, что посеяны в поле или идут на корм курам. Посади это зернышко в цветочный горшок, а потом увидишь, что будет.
— Спасибо тебе! — сказала женщина, дала колдунье денег и пошла домой.
Дома она посадила в цветочный горшок ячменное зерно, и из него тотчас же вырос прекрасный большой цветок, похожий на тюльпан, только лепестки у него были плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.
— Какой красивый цветок! — воскликнула женщина и поцеловала прелестные, красные с желтым, лепестки; но не успела она их поцеловать, как в цветке что-то щелкнуло, и он весь раскрылся, — теперь стало ясно, что это настоящий тюльпан. В его чашечке, на зеленом пестике, сидела хорошенькая крошечная девочка, ростом не больше дюйма. Поэтому ее и назвали Дюймовочкой.
Блестящая лакированная скорлупа грецкого ореха служила ей колыбелькой, голубые фиалки — тюфяком, а лепесток розы — одеялом. Ночью она спала в колыбели, а днем играла на столе. Женщина поставила на стол тарелку с водой и положила в нее цветы так, что стебельки их были погружены в воду, а чашечки венком лежали по краям; на воду она пустила большой лепесток тюльпана — на него часто садилась Дюймовочка и плавала от одного края тарелки до другого, два белых конских волоса заменяли ей весла. Все это было прелестно! Еще Дюймовочка умела петь, да таким нежным и красивым голоском, какого никто на свете не слыхивал.
Однажды ночью, когда она лежала в своей хорошенькой колыбели, в разбитое окно вскочила отвратительная жаба, большая и мокрая. Она прыгнула прямо на стол, где под лепестком розы спала Дюймовочка.
— Вот славная жена для моего сынка! — квакнула жаба и, схватив скорлупку с девочкой, выпрыгнула через окно в сад.
В саду протекал большой, широкий ручей; берега у него были топкие, болотистые, и здесь-то, в тине, и жила жаба со своим сыном. У! Какой он был гадкий и противный! Вылитая мать! «Коакс, коакс, брекке-ке-кекс!» — вот все, что он смог проквакать, когда увидел прелестную девочку в ореховой скорлупе.
— Тише! Не то она проснется и убежит от нас! — остановила его старая жаба — Она ведь легче лебединого пуха. Посадим ее на середину ручья, на широкий лист кувшинки, такой крошке он покажется целым островом. С листа она убежать не сможет, а мы тем временем приготовим в тине удобное гнездышко, в котором вы будете жить.
В ручье росло много белых кувшинок, и их широкие зеленые листья плавали по воде. Самый большой лист был дальше всех от берега. Старая жаба подплыла к этому листу и поставила на него ореховую скорлупку с Дюймовочкой. Рано утром бедная крошка проснулась и, увидев, куда она попала, горько заплакала — кругом, куда ни посмотришь, вода да вода, а берег чуть виднеется вдали.
А старая жаба сидела в тине и украшала свой дом камышом и желтыми кувшинками — ей хотелось порадовать будущую невестку. Покончив с приготовлениями к свадьбе, она поплыла со своим безобразным сынком к листу, на котором стояла Дюймовочка, чтобы забрать ее кроватку и заранее поставить в спальню будущих новобрачных.
Приблизившись, старая жаба низко присела в воде перед девочкой и сказала:
— Вот мой сынок! Он будет твоим мужем. И вы славно заживете у нас в тине.
— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — проквакал сынок
Жабы взяли нарядную кроватку и куда-то уплыли с ней.
А Дюймовочка сидела одна на зеленом листе и горькогорько плакала — очень уж ей не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали в воде под листом, видели жабу и слышали ее слова, и теперь они высунули головы из воды, чтобы поглядеть на Дюймовочку. Как только они ее увидели, им стало очень грустно, что такой прелестной девочке придется жить у гадкой жабы. «Так не бывать же этому!» — решили рыбки и, подплыв к листу кувшинки, на котором стояла Дюймовочка, перекусили его зеленый стебель. И вот лист с Дюймовочкой быстро поплыл по течению — теперь жаба не могла бы догнать девочку.
Дюймовочка плыла все дальше и дальше. Птички, сидевшие в кустах, смотрели на нее и пели: «Какая прелестная маленькая девочка!» А лист все плыл да плыл, и наконец Дюймовочка очутилась в чужих краях.
Вокруг Дюймовочки все время порхал красивый белый мотылек и наконец опустился на ее лист — уж очень она ему понравилась. А Дюймовочка радовалась, что гадкая жаба не может ее догнать, что все вокруг так красиво, а вода сверкает на солнце, как червонное золото. Дюймовочка сняла с себя пояс, один его конец набросила на мотылька, а другой прикрепила к листу — и лист поплыл еще быстрее.
Мимо летел майский жук. Увидев девочку, он обхватил ее лапкой за тонкую талию и унес на дерево, а лист кувшинки поплыл дальше, и с ним мотылек — он ведь был привязан и не мог освободиться.
Как испугалась бедная Дюймовочка, когда майский жук схватил ее и посадил на дерево! Но не так она боялась за себя, как за красивого белого мотылька, которого привязала к листу,- она знала, что, если ему не удастся освободиться, он умрет с голоду. Майский жук об этом и не помышлял. Он уселся с Дюймовочкой на самый большой лист, угостил ее сладким цветочным соком и сказал, что она очаровательна, хоть и ничуть не похожа на майского жука. Потом к ним прилетели гости — другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они разглядывали Дюймовочку с головы до ног, и барышни шевелили усиками и говорили:
— У нее только две ножки! Какое убожество!
— У нее даже нет усиков!
— Какая у нее тонкая талия! Фи, она похожа на человека! Как она некрасива! — твердили в один голос все дамы.
На самом деле Дюймовочка была прелестна. Это находил и майский жук, который принес ее на дерево; но когда все остальные сказали, что она безобразна, он под конец сам поверил этому и не стал держать ее у себя: пусть идет куда знает, решил он. И вот он слетел с Дюймовочкой на землю и посадил ее на ромашку. Дюймовочка горько заплакала: ей было обидно, что она такая некрасивая,— даже майские жуки не захотели принять ее в свою среду. А ведь она была самой очаровательной девочкой, какую только можно себе представить: нежная и ясная, как прекрасный розовый лепесток.
Все лето прожила бедная Дюймовочка одна-одине-шенька в большом лесу. Она сплела себе из травинок кроватку и подвесила ее под лист лопуха, чтобы ее не замочил дождик; она ела сладкую цветочную пыльцу и пила росу, которую каждое утро находила на листьях. Так прошло лето, прошла и осень; приближалась длинная, холодная зима. Все птички, которые так радовали Дюймовочку своим пением, улетели в теплые края, цветы завяли, листья осыпались, а большой лопух, под которым она жила, пожелтел, высох и свернулся в трубочку. Платьице Дюймовочки изорвалось, и она все время зябла; а ведь она была такая нежная и маленькая, долго ли ей было замерзнуть до смерти! Пошел снег, и каждая снежинка была для Дюймовочки словно целая лопата снега для нас: мы-то ведь большие, а она была всего в дюйм ростом. Она завернулась было в сухой листок, но он разорвался, и бедняжка дрожала от холода.
Однащы Дюймовочка выбралась из леса на большое поле; хлеб давно уже был убран, и только голые сухие соломинки торчали из мерзлой земли. Дюймовочка шла между ними, как в густом лесу, и холод пронизывал ее. Наконец, она подошла к норке, прикрытой сухими былинками. Тут, в тепле и довольстве, жила полевая мышь; амбары ее были битком набиты зерном, кухня и кладовая ломились от припасов. Бедная Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей хоть кусочек ячменного зернышка — вот уже два дня, как у нее крошки во рту не было.
— Ах ты бедняжка! — сказала полевая мышь, она была добрая старуха.— Ну, иди сюда скорей, погрейся да поешь со мной.
И так понравилась Дюймовочка старой мыши, что та предложила:
— Оставайся у меня на зиму. Только смотри, хорошенько убирай мои комнаты и рассказывай мне сказки — я до них большая охотница.
Дюймовочка осталась; она все делала так, как приказывала добрая старая мышь, и жилось ей хорошо.
— Скоро у нас будут гости,— сказала однажды полевая мышь,— раз в неделю ко мне приходит в гости мой сосед. Он живет еще лучше меня, в просторном доме, и носит роскошную шубку из черного бархата. Вот если б тебе посчастливилось выйти за него замуж, ты бы жила без забот. Но только он слепой. Ты должна будешь рассказывать ему самые красивые сказки, какие только знаешь!
Но Дюймовочке вовсе не хотелось выходить замуж за соседа — ведь он был крот. Вскоре он пришел к полевой мыши с визитом, одетый в черную бархатную шубку.
— Он такой важный, ученый, богатый,— говорила полевая мышь,— дом его в двадцать раз больше моей норки; но он ненавидит солнце и цветы, называет их отвратительными — он ведь никогда их не видел.
Мышь приказала Дюймовочке что-нибудь спеть; и она спела две песенки, да так мило, что крот, очарованный ее прелестным голосом, сразу в нее влюбился. Но он не сказал ни слова — ведь он был мужчина степенный.
Немного погодя он прорыл длинный подземный ход от своего дома до жилья полевой мыши и разрешил ей и Дюймовочке гулять по этому коридору, когда им вздумается. Однако он предупредил их, чтобы они не пугались мертвой птицы — самой настоящей птицы, с перьями и клювом,— которая умерла, должно быть, совсем недавно, в начале зимы, и была похоронена как раз в том месте, где он прорыл свой ход.
Крот взял в зубы кусок гнилушки — она ведь светится в темноте — и пошел вперед, освещая длинный темный коридор. Когда они дошли до того места, где лежала мертвая птица, крот ткнул мордой в земляной потолок и пробил в нем большую дыру, через которую проник дневной свет.
Дюймовочка увидела мертвую ласточку: ее красивые крылышки были крепко прижаты к телу, голову и лапки она втянула, и, прикрытые перьями, они не были видны; скорей всего, бедная птичка умерла от холода. Дюймовочке стало очень жалко ее — ведь она так любила птичек, которые целое лето утешали ее своими песенками. А крот толкнул мертвую ласточку короткими лапами и сказал:
— Наконец-то перестала пищать! Нет ничего хуже, чем родиться птицей. Слава богу, детям моим не грозит эта участь. Птицы только и умеют, что чирикать да щебетать, а придет зима — что им делать, как не помирать с голоду.
— Вам хорошо говорить, вы человек благоразумный,— отозвалась полевая мышь,— Вполне с вами согласна: что проку от чириканья, когда придет зима! Песнями сыт не будешь, а чириканьем не согреешься. Потому-то птицы и умирают от голода и холода. Впрочем, это судьба всех бедных, но благородных людей.
Дюймовочка не проронила ни слова; когда же крот с мышью повернулись спиной, она наклонилась над ласточкой, раздвинула ее перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки.
«Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно пела летом,— подумала она — Как много радости доставила она мне, милая, красивая птичка!»
Потом крот опять заделал дыру, сквозь которую проникал дневной свет, и проводил своих дам домой. Ночью Дюймовочка никак не могла уснуть. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большое красивое одеяло и, войдя в коридор, укрыла мертвую птичку, потом принесла из мышиной норки цветочных тычинок, легких, как вата, и обложила ими ласточку, чтобы ей не так холодно было лежать в сырой земле.
— Прощай, прелестная птичка! — сказала Дюймовочка— Прощай, и спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда деревья были еще зеленые и нам ласково светило солнце!
Потом она склонила головку на грудь птички и вздрогнула, услышав: «Стук! Стук!» — это забилось сердце ласточки. Оказывается, она вовсе не умерла, только окоченела, а теперь отогрелась и ожила.
Осенью все ласточки улетают в теплые края; и если одна из них опоздает улететь, то вскоре коченеет, как мертвая, падает на землю, и ее засыпает холодным снегом.
Дюймовочка дрожала от страха: ведь птичка была просто великаншей по сравнению с ней, такой крошкой,— но все-таки собралась с духом, потеплей укутала ласточку и прикрыла ей голову листом мяты, которым всегда укрывалась сама.
На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Теперь бедняжка совсем ожила, но все еще была очень слаба и, чуть приоткрыв глаза, смотрела на Дюймовочку, которая стояла перед ней с гнилушкой в руках вместо фонарика.
— Спасибо тебе, милая крошка! — чирикнула больная ласточка — Я так хорошо согрелась! Скоро совсем поправлюсь и опять полечу на солнышко.
— Ах,— сказала Дюймовочка,— сейчас на дворе мороз и снег идет! Лежи лучше в теплой постельке, а я буду за тобой ухаживать.
И она принесла ласточке воды в чашечке цветка. Птичка попила и рассказала Дюймовочке, как поранила себе крыло о терновый куст и потому не смогла улететь в теплые края вместе с другими ласточками. Когда настали холода, она окоченела и упала на землю — больше ничего она не помнила и не знала, как попала сюда.
Всю зиму она просидела в подземном коридоре, а Дюймовочка ухаживала за ней. Она очень привязалась к птичке. Полевая мышь и крот ни о чем не догадывались: они чувствовали отвращение к ласточке и не ходили туда, где она лежала.
Как только настала весна и солнце пригрело землю, ласточка простилась с Дюймовочкой. Девочка сделала отверстие в потолке — там, где его заделал крот,— солнышко заглянуло в темный коридор, и ласточка спросила, не хочет ли Дюймовочка сесть ей на спину и полететь с нею в зеленый лес. Но девочка не захотела покинуть старую полевую мышь, зная, что это очень огорчит ее.
— Нет, я не могу лететь с тобой,— сказала она ласточке.
— Прощай, прощай, добрая, прелестная девочка! — прощебетала ласточка и вылетела на волю.
Дюймовочка поглядела ей вслед, и глаза ее наполнились слезами — уж очень она полюбила бедную птичку.
— Кви-вить! Кви-вить! — прочирикала птичка и улетела в зеленый лес.
Дюймовочке было очень грустно, ведь ее никогда не пускали погреться на солнышке, а хлеб, который посеяли на поле вокруг норки полевой мыши, так разросся, что казался малютке огромным лесом.
— Ты теперь невеста, Дюймовочка,— сказала однажды мышь — К тебе посватался наш сосед. Какое тебе счастье выпало, бедняжка! Теперь придется тебе шить приданое — и шерстяные платья, и белье; надо, чтобы у тебя всего было вдоволь, когда ты будешь женой крота.
И Дюймовочке пришлось прясть целыми днями; а мышь наняла четырех пауков-ткачей, и они ткали круглые сутки. Крот каждый вечер приходил в гости и все болтал о том, что скоро-де конец лету и солнце перестанет палить; это хорошо — и без того земля стала твердой, как камень. А когда кончится лето, они сыграют свадьбу.
Но Дюймовочка вовсе этому не радовалась, она ни капельки не любила скучного крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате она выскальзывала на порог мышиной норки и, когда ветер раздвигал колосья, видела кусочек неба. Дюймовочка думала тогда: «Как хорошо и светло там, на воле!» И ей очень хотелось увидеть милую ласточку. Но птички нигде не было видно; наверное, она улетела далеко-далеко, в зеленый лес.
Когда наступила осень, все приданое Дюймовочки было готово.
— Свадьба твоя будет через месяц,— заявила ей как-то полевая мышь.
Дюймовочка заплакала и сказала, что не хочет выходить за скучного крота.
— Глупости! — отрезала мышь— Перестань упрямиться, а не то я укушу тебя своими белыми зубами. У тебя будет прекрасный муж! Такой черной бархатной шубы у самой королевы нету. Все закрома и подвалы у него полным-полны. Бога надо благодарить за такого мужа!
И вот настал день свадьбы. Крот пришел за невестой, чтобы увести ее к себе глубоко под землю, куда не проникал свет ясного солнышка, потому что крот его терпеть не мог. Тяжело было бедной девочке навсегда распроститься с ясным солнышком, и она с разрешения полевой мыши вышла полюбоваться им в последний раз.
— Прощай, красное солнышко! — сказала Дюймовочка, стоя на пороге норки, и протянула вверх руки. Немного погодя она вышла на поле; хлеб здесь был уже убран, из земли торчали только сухие соломинки — Прощай и ты,— сказала она и обняла красный цветочек, который уцелел случайно.— Поклонись от меня милой ласточке, если увидишь ее.
— Кви-вить, кви-вить! — послышалось вдруг где-то в вышине.
Дюймовочка подняла глаза и увидела пролетавшую мимо ласточку. Птичка очень обрадовалась, узнав Дюймовочку, а та, обливаясь слезами, рассказала, как ей не
хочется выходить замуж за уродливого крота и жить под землей, куда никогда не заглядывает солнышко.
— Наступает холодная зима,— сказала ласточка — Я улетаю далеко-далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой подальше от противного крота и его темного подземелья. Мы полетим над горами в жаркие страны, где солнце светит ярче, чем здесь, где круглый год продолжается лето и цветут чудесные цветы. Полетим со мной, милая Дюймовочка! Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной холодной земле.
— Да, я полечу с тобой! — сказала Дюймовочка.
Она уселась птичке на спину, уперлась ножками в ее распростертые крылья и привязала себя поясом к самому большому перу. Ласточка стрелой взвилась в воздух и полетела над лесом и морем, над высокими снежными горами. Дюймовочке стало очень холодно, и она зарылась в теплые перья ласточки, высунув лишь головку, чтобы полюбоваться красотой земли, над которой они летели.
Но вот и теплые края. Солнце здесь светило гораздо ярче, небо было в два раза выше, чем у нас, а вдоль изгородей и канав рос чудесный зеленый и черный виноград. В лесах зрели апельсины и лимоны, пахло миртами и мятой, а по дорожкам бегали веселые ребятишки и ловили больших пестрых бабочек. Но ласточка летела все дальше, и места, над которыми она летела теперь, были еще красивее. На берегу голубого озера стоял, сверкая белым мрамором, старинный замок, окруженный пышными зелеными деревьями. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а на самом верху, под крышей, лепились гнезда ласточек. В одном из них и жила та ласточка, которая сейчас несла Дюймовочку.
— Вот мой дом! — сказала она — А ты выбери себе внизу самый красивый цветок. Я отнесу тебя туда, где он растет, и ты поселись в нем; там тебе будет уютно.
— Ах, как хорошо! — воскликнула девочка и захлопала крошечными ручонками.
Внизу лежала большая разбитая мраморная колонна; падая на землю, она раскололась на три куска, и между обломками выросли чудесные крупные белые цветы. Ласточка посадила Дюймовочку на широкий лепесток одного цветка. Но что за чудо: в чашечке цветка сидел крошечный человек, ростом не выше Дюймовочки и совсем прозрачный,— казалось, он был из хрусталя! На голове у него была красивая золотая корона, а за плечами сверкали блестящие крылья. Это был эльф. Такие же эльфы — юноши или девушки — жили в каждом цветке, а этот был королевский сын.
— Боже, как он красив! — шепнула Дюймовочка ласточке.
Та подлетела к цветку, и маленький принц очень испугался — ведь по сравнению с ней он был совсем крошечный и слабый. Но, увидев Дюймовочку, он пришел в восторг — такой хорошенькой девушки он еще никогда не видел. И вот он снял с себя корону и надел ее на Дюймовочку, потом спросил, как ее зовут и не хочет ли она выйти за него замуж и сделаться царицей цветов? Вот это был настоящий жених! Не то что отпрыск жабы или крот в бархатной шубе. Поэтому Дюймовочка дала согласие красивому принцу. Из всех цветов вылетели эльфы — юноши и девушки, такие прелестные, что Дюймовочка никак не могла на них налюбоваться. Каждый преподнес невесте подарок, и больше всего ей понравились прозрачные крылья большой стрекозы. Их надели Дюймовочке на спину, и теперь она тоже могла перелетать с цветка на цветок. То-то была радость! Ласточка сидела высоко в своем гнезде. Ее попросили спеть свадебную песню, и она старалась петь как можно лучше, но втайне все-таки грустила, потому что любила Дюймовочку и не хотела с ней расставаться.
— Тебя больше не будут звать Дюймовочкой,— сказал невесте эльф— Это некрасивое имя, а ты такая хорошенькая! Тебя будут звать Майей.
— Прощай, прощай! — прошептала ласточка и с тяжелым сердцем улетела из теплых стран на родину, в далекую Данию. Там у нее было гнездышко, как раз над окном того человека, который умеет рассказывать сказки. Он услыхал ее «кви-вить, кви-вить», а от него и мы узнали всю эту историю.
ОГНИВО
Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку. Шел он домой с войны. По дороге встретилась ему старая ведьма, безобразная, противная: нижняя губа висела у нее до самой груди.
— Здорово, служивый! — буркнула она — Ишь, какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Ну, сейчас я тебе отвалю денег, сколько твоей душе угодно.
— Спасибо тебе, старая ведьма! — сказал солдат.
— Видишь вон то старое дерево? — проговорила ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку—
Внутри оно пустое. Влезь наверх: увидишь дупло, спустись в него до самого низу. Перед тем как ты спустишься, я тебя обвяжу веревкой вокруг пояса, а когда ты мне крикнешь, я тебя вытащу.
— Но зачем мне туда лезть? — спросил солдат.
— За деньгами! — ответила ведьма
— Надо тебе знать, что, когда ты доберешься до самого низа, ты увидишь большой подземный ход; в нем горит больше трехсот ламп, поэтому там совсем светло. Потом ты увидишь три двери; можешь их отворить, ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату; посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку; глаза у нее величиной с чайную чашку. Но ты не бойся! Я дам тебе свой синий клетчатый передник, а ты расстели его на полу, быстренько подойди и схвати собаку; посади ее на передник, открой сундук и бери из него денег сколько угодно. В этом сундуке лежат только медяки; захочешь серебра — ступай в другую комнату; там сидит собака с глазами, как мельничные колеса, но ты не пугайся, посади ее на передник и бери деньги. А если тебе захочется золота, достанешь и его, Сколько сможешь унести, стоит лишь пойти в третью комнату. У собаки, что там сидит на деревянном сундуке, глаза с Круглую башню1. Собака эта очень злая, можешь мне поверить! Но ты и ее не бойся. Посади ее на мой передник, и она тебя не тронет, а ты бери себе золота сколько хочешь!
— Оно бы недурно! — сказал солдат.— Но что же ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь даром ты для меня ничего не сделаешь.
— Ни гроша я с тебя не возьму,— ответила ведьма.— Только принеси мне старое огниво,— там его позабыла моя бабушка, когда спускалась туда в прошлый раз.
— Ну, обвязывай меня веревкой! — приказал солдат.
— Готово! — сказала ведьма — А вот и мой синий клетчатый передник!
Солдат влез на дерево, соскользнул в дупло и, как и говорила ведьма, очутился в большом проходе, где горели сотни ламп.
Вот он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращила их на солдата.
— Молодчина! — сказал солдат и, посадив собаку на ведьмин передник, набрал себе полный карман медных денег, потом закрыл сундук, водворил на него собаку и перешел в другую комнату. Правду сказала ведьма! Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса.
— Ну, нечего таращить на меня глаза, а то еще заболят! — сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник.
Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медяки и набил себе оба кармана и ранец серебром. Затем он перешел в третью комнату. Ну и страшилище! У собаки, что там сидела, глаза были никак не меньше Круглой башни и вращались, как колеса.
— Добрый вечер! — сказал солдат и взял под козырек.
Такой собаки он еще не видывал.
Впрочем, смотрел он на нее недолго, а взял да и посадил ее на передник, потом открыл сундук Боже! Сколько тут было золота! Он мог купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговок сластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете! Денег была уйма. Солдат выбросил серебряные деньги и так набил свои карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что едва мог двигаться. Ну, наконец-то он был при деньгах! Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал:
— Тащи меня, старая ведьма!
— Огниво взял? — спросила ведьма.
— Ах черт, чуть было не забыл! — ответил солдат; пошел и взял огниво.
Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге, только теперь карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом.
— Зачем тебе это огниво? — спросил солдат.
— Не твое дело! — ответила ведьма.— Получил деньги и хватит с тебя! Ну, отдавай мне огниво!
— Как бы не так! — сказал солдат— Сию минуту говори, на что оно тебе нужно, а не то вытащу саблю и голову тебе отрублю.
— Не скажу! — уперлась ведьма.
Ну, солдат взял да и отрубил ей голову. Ведьма повалилась на землю мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел себе на спину, огниво сунул в карман и отправился прямо в город.
Город этот был богатый. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и заказал все свои любимые блюда — ведь он теперь стал богачом!
Слуга, который чистил обувь приезжих, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги, но солдат еще не успел обзавестись новыми. Однако на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и дорогую одевду.
Теперь солдат сделался настоящим барином, и ему рассказали обо всех достопримечательностях города, о короле и его прелестной дочери, принцессе.
— Как бы ее увидеть? — спросил солдат.
— Это невозможно! — ответили ему.— Она живет в огромном медном замке, а замок окружен высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, что дочь его выйдет замуж за совсем простого солдата, а королям такое понравиться не может.
«Вот бы на нее поглядеть!» — подумал солдат.
Да кто бы ему позволил?!
Теперь он зажил весело: ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много денег отдавал бедным. И это было очень хорошо с его стороны, ведь он по себе знал, как трудно сидеть без гроша в кармане! Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел множество друзей; все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Но так как он все только тратил деньги, а новых ему взять было неоткуда, то в конце концов осталось у него всего-навсего две монетки! Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их; теперь никто из друзей его не навещал — уж очень высоко было к нему подниматься!
Однажды темным вечером солдат сидел в своей каморке, денег у него не было даже на свечку. И вдруг он вспомнил про крошечный огарочек в огниве, которое он взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но как только ударил по кремню, высекая огонь, дверь распахнулась, и перед ним предстала собака с глазами, как чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье.
— Что угодно, господин? — пролаяла она.
— Вот так история! — сказал солдат— Огниво-то, выходит, прелюбопытная штучка: теперь я смогу получить все, что захочу! Эй — ты, добудь-ка мне денег! — приказал он собаке,— и… раз — ее уж и след простыл; два — она опять была тут как тут, а в зубах держала большой кошель, набитый медными монетами! Тогда солдат понял, что за чудодейственное у него огниво. Ударишь по кремню раз — является собака, что сидела на сундуке с медными деньгами; ударишь два — является та, что сидела на серебре; ударишь три — прибегает та, что сидела на золоте.
Солдат опять перебрался в хорошие комнаты и стал носить богатую одежду, а все его друзья немедленно узнали его и крепко полюбили вновь.
Вот раз ему и приди в голову: «Как это глупо, что нельзя повидать принцессу! Такая красавица, говорят, а что толку? Весь век сидит в медном замке, за высокими стенами с башнями! Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? Ну-ка, где мое огниво?» — и он ударил по камню раз. В тот же миг перед ним предстала собака с глазами, как чайные чашки.
— Теперь, правда, уже ночь,— сказал солдат,— но мне до смерти захотелось увидеть принцессу, хоть на минуточку!
Собака — сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она вернулась с принцессой. Принцесса
сидела на спине у собаки и спала. Она была чудо как хороша — всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса; и солдат не утерпел и поцеловал ее — он ведь был бравый воин, настоящий солдат.
Потом собака отнесла принцессу назад; и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она нынче видела удивительный сон про собаку и солдата: будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее.
— Вот так история! — воскликнула королева.
На следующую ночь в спальню принцессы отрядили старуху фрейлину с приказом разузнать, был ли то сон или явь.
А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот — ночь, снова явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть к солдату; но старуха фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидев, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, фрейлина подумала: «Теперь я знаю, где их найти!» — начертила большой крест на воротах и отправилась домой спать. Но собака на обратном пути заметила этот крест, сейчас же взяла кусок мела и понаставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано: теперь фрейлина не могла найти нужные ворота, раз на всех остальных тоже белели кресты.
Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли узнать, куда ездила принцесса ночью.
— Вот куда! — сказал король, увидев первые ворота с крестом.
— Нет, вот куда, муженек! — возразила королева, заметив крест на других воротах.
— Крест и здесь, и здесь…— зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что не добиться им толку.
Но королева была женщина умная — она умела не только в каретах разъезжать. И вот взяла она большие золотые ножницы, разрезала кусок шелковой материи на несколько лоскутов и сшила крошечный хорошенький мешочек; в тот мешочек она насыпала мелкой гречневой крупы и привязала его на спину дочке, а потом прорезала в нем дырочку, чтобы крупа сыпалась на дорогу, по которой поедет принцесса.
Ночью собака явилась опять, посадила принцессу себе на спину и побежала к солдату, а солдат до того влюбился в принцессу, что начал жалеть, почему он не принц,— так хотелось ему жениться на ней.
Собака и не заметила, что по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она вскочила с принцессой, за нею сыпалась крупа. Уже рано утром король
и королева узнали, куда ездила их дочь, и солдата посадили в кутузку.
Как там было темно и тоскливо! Засадили его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят!» Невесело было услышать это. А огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе.
Утром солдат подошел к маленькому окошку своей камеры и стал глядеть сквозь железную решетку на улицу: народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата; били барабаны, проходили полки. Все бежали бегом; бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался вприпрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и стукнула прямо в стену, у которой стоял солдат, глядя сквозь решетку.
— Эй, ты, куда торопишься? — сказал солдат мальчику— Без меня ведь дело не обойдется! А вот если ты сбегаешь туда, где я жил раньше, за моим огнивом, ты получишь четыре монеты. Только живо!
Мальчишка был не прочь получить четыре монеты и стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и… а вот сейчас узнаем, что было потом!
За городом была построена огромная виселица, а вокруг стояли солдаты и многие сотни тысяч людей. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и королевского совета.
Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею, но он сказал, что, прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его невинное желание. А ему очень хотелось бы выкурить трубочку табаку — ведь это будет его последняя трубочка на этом свете!
Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три — и перед ним предстали все три собаки: собака с глазами, как чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, собака с глазами, как Круглая башня.
— Ну-ка, помогите мне избавиться от петли! — приказал им солдат.
И собаки бросились на судей и на весь королевский совет: того за ноги схватили, того за нос, да и подбросили ввысь. Все упали и разбились вдребезги!
— Не надо! — закричал король, но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их ввысь вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:
— Служивый, будь нашим королем и женись на прекрасной принцессе!
И вот солдата посадили в королевскую карету. Карета катилась, а все зри собаки танцевали перед ней и кричали «ура!» Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю; собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.
РУСАЛОЧКА
В открытом море вода синяя, как лепестки красивейших васильков, и прозрачная, как тончайшее стекло. Но зато и глубоко же там! Так глубоко, что никакие якори не достанут до дна, и на него пришлось бы поставить немало колоколен одну на другую, чтобы верхняя высунулась из воды. На дне морском живут русалки.
Не подумайте, что там только голый песок,— нет, на дне растут удивительные деревья и цветы, с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. В этой чаще шныряют маленькие и большие рыбы, точь-в-точь как у нас птицы в лесу. На самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря и с кровлей из раковин, которые то открываются, то закрываются, в зависимости от прилива и отлива. Это дивное зрелище, ибо в каждой раковине лежат блестящие жемчужины такой красоты, что любая из них украсила бы корону любой королевы.
Морской царь давным-давно овдовел, и царским хозяйством заправляла его старуха мать, женщина умная, но очень гордившаяся своей знатностью,— на хвосте у нее сидела целая дюжина устриц, тогда как вельможам полагалось только по шести. Вообще же она была женщина достойная, особенно потому, что очень любила маленьких морских принцесс, своих внучек. Их было шестеро, и все прехорошенькие, а младшая — лучше всех: кожа у нее была нежная и прозрачная, как лепесток розы, а глаза синие, как глубокое море. Но у нее, как и у других русалок, не было ножек, их заменял рыбий хвост.
День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где на стенах росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как в наши окна иной раз влетают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить.
Перед дворцом был разбит большой сад, в котором росло много огненно-красных и синих деревьев; их ветви и листья всегда колыхались, плоды сверкали, как золото, а цветы пылали, как костер. Самая земля там была усыпана мелким песком цвета серного пламени, и потому дно морское отливало каким-то удивительным голубоватым блеском — можно было подумать, что витаешь
высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна можно было видеть солнце; оно казалось пурпуровым цветком, венчик которого излучал свет.
В саду у каждой принцессы было свое местечко; тут они копали землю и сажали цветы, какие хотели. Одна сделала себе цветочную клумбу в виде кита; другой захотелось, чтобы ее клумба походила на русалочку; а младшая сделала клумбу круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странная девочка была эта русалочка — такая тихая, задумчивая… Другие сестры украшали свои садики разными разностями, добытыми на затонувших кораблях, а в ее саду были только красные цветы, похожие на далекое солнце, да прекрасная статуя мальчика из чистого белого мрамора, упавшая на дно моря с какого-то погибшего судна. Русалочка посадила у статуи розовую плакучую иву, и она пышно разрослась: длинные тонкие ветви ее, окутав статую, почти касались голубого песка, на котором колебалась их фиолетовая тень. Так, вершина и корни, казалось, играли, пытаясь поцеловать друг друга. Больше всего любила русалочка слушать про людей, что живут наверху, на земле, и бабушка должна была рассказывать ей все, что только знала о кораблях и городах, о людях и животных. Особенно занимало и удивляло
русалочку то, что цветы на земле пахнут,— не то что здесь, в море! — что леса там зеленые, а рыбки, которые живут на земных деревьях, поют очень звонко и красиво. Бабушка называла «рыбками» птичек, иначе внучки не поняли бы ее: они никогда в жизни не видели птиц.
— Как только одной из вас минет пятнадцать лет,— говорила бабушка,— ей разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо корабли; она увидит земные леса и города.
В этот год старшей принцессе как раз исполнялось пятнадцать лет, а другим сестрам — все они были погодки — приходилось еще ждать того дня, когда им разрешат всплыть наверх; и дольше всех должна была ждать младшая. Но каждая обещала рассказать сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день,— им было мало рассказов бабушки и хотелось знать обо всем на свете как можно подробнее.
Никого так не тянуло на поверхность моря, как младшую сестру, тихую, задумчивую русалочку, которой пришлось ждать дольше всех. Сколько ночей она провела у открытого окна, глядя вверх, сквозь синеву морской воды, в которой стаи рыбок шевелили своими плавниками и хвостами! Она даже могла разглядеть
месяц и звезды: они, конечно, светили совсем тускло, но зато казались гораздо крупнее, чем кажутся нам. Случалось, что их затмевало что-то вроде большой тучи, но русалочка знала, что это плывет над нею кит или проходит корабль с толпами людей. Эти люди и не подозревали, что там, в глубине моря, стоит прелестная русалочка и протягивает к килю корабля свои белые ручки.
Но вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря.
Сколько было рассказов, когда она вернулась назад! Но больше всего ей понравилось лежать при свете месяца на песчаной отмели и нежиться, любуясь раскинувшимся на берегу городом: там, словно сотни звезд, горели огни, играла музыка, тарахтели повозки, шумели люди, высились колокольни и звонили колокола. Ей нельзя было попасть туда, потому-то ее так и манило это зрелище.
Как жадно слушала ее младшая сестра! Стоя вечером у открытого окна и глядя вверх сквозь темно-синюю воду, она только и думала, что о большом шумном городе, и ей даже слышался колокольный звон.
Прошел год, и второй сестре тоже позволили подняться на поверхность моря и плыть куда угодно. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце са-
дилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака… тут у нее даже слов не хватало! Пурпуровые и фиолетовые, они быстро летели по небу, но еще быстрее мчалась к солнцу стая лебедей, похожая на длинную белую вуаль. Русалочка тоже было поплыла к солнцу, но оно погрузилось в море, а на воде и на облаках погас розовый отблеск.
Прошел еще год — и вынырнула третья сестра. Эта была смелее всех и поплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные красивыми рощами, в которых пели птицы. Солнце светило ярко и так припекало, что ей не раз пришлось нырнуть в воду, чтобы освежить пылающее лицо. В маленькой бухте плескалась целая толпа голеньких человеческих детей. Русалка хотела было поиграть с ними, но они испугались и убежали, а вместо них появился какой-то черный зверек и принялся на нее тявкать, да так грозно, что она в страхе уплыла. Зверек этот был просто-напросто собачкой, но русалка ведь еще не видела собак. Вернувшись домой, она не уставала вспоминать чудесные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умели плавать, хоть у них и не было рыбьих хвостов.
Четвертая сестра оказалась не такой смелой — она держалась больше в открытом море и потом говорила, что это лучше всего: куда ни оглянись, на много-много миль вокруг только вода да небо, опрокинутое над водой, точно огромный стеклянный купол. Большие корабли она видела только издали, и ей они казались похожими на чаек; вокруг нее играли и кувыркались забавные дельфины, а громадные киты пускали фонтаны из ноздрей.
Потом настал черед пятой сестры; ее день рождения был зимой, и она увидела то, чего не видели другие. Море теперь было зеленоватого цвета, повсюду плавали ледяные горы, похожие на огромные жемчужины, но только они были гораздо выше самых высоких колоколен, построенных людьми. Некоторые из них были очень причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую ледяную гору, и ветер развевал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили эту гору стороной. К вечеру небо заволокло тучами, засверкала молния, загремел гром, и темное море принялось кидаться ледяными глыбами, которые ярко сверкали при красном свете молний. На кораблях убирали паруса, люди метались в страхе и трепете, а русалка спокойно плыла вдаль, сидя на ледяной горе и любуясь на огненные зигзаги
молний, которые, прорезав небо, падали в мерцающее море.
Да и все сестры восхищались тем, что увидели впервые,— все это было ново и потому нравилось им. Но, сделавшись взрослыми девушками и получив разрешение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему, что видели, и спустя месяц стали уже говорить, что везде хорошо, но дома лучше.
По вечерам все пять сестер поднимались рука об руку на поверхность воды. Они были одарены великолепными голосами, каких не бывает у людей,— и вот когда начиналась буря и опасность нависала над кораблями, русалки подплывали к ним и пели песни о чудесах подводного царства, уговаривая моряков не бояться попасть к ним на дно. Но моряки не могли разобрать слов — им казалось, что это просто шумит буря. Впрочем, если б они и попали на дно морское, им все равно не удалось бы увидеть там никаких чудес,— ведь, когда корабль шел на дно, люди тонули и приплывали ко дворцу морского царя уже мертвыми.
В то время как русалки рука об руку всплывали на поверхность моря, младшая их сестра сидела одна-одине-шенька, глядя им вслед, и ей очень хотелось заплакать. Но русалки не могут плакать, и им от этого еще тяжелее переносить страдания.
—Ах, если бы мне уже было пятнадцать лет! — говорила она — Я знаю, что очень полюблю тот верхний мир и людей, которые в нем живут!
Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет!
—Ну вот, вырастили и тебя! — сказала ей бабушка, вдовствующая королева — Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер.
И она надела русалочке на голову венец из белых жемчужных лилий, каждый их лепесток был сделан из половинки жемчужины; потом приказала восьмерым устрицам прицепиться к ее хвосту — это было знаком отличия ее сана.
—Мне больно! — проговорила русалочка.
—Ради красоты стоит потерпеть! — изрекла старуха.
Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венец — алые цветы из ее садика шли ей гораздо больше. Но делать нечего!
—Прощайте! — сказала она и легко и плавно, как прозрачный пузырек воздуха, поднялась на поверхность.
Солнце только что село, но облака еще пылали, пурпурные и золотые, и в розовом небе зажглась вечерняя звезда. Воздух был мягок и свеж, а море словно замерло. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль всего лишь с одним
поднятым парусом — на море не было ни малейшего ветерка. На вантах и реях сидели матросы, с палубы доносились звуки музыки и песен; когда же совсем стемнело, корабль осветили сотни разноцветных фонариков,— казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к зеркальным иллюминаторам кают-компании и заглядывала туда всякий раз, как ее приподнимала волна. В кают-компании собралось много нарядных людей, но красивее всех был черноглазый принц, юноша лет шестнадцати, не больше. В тот день праздновали его рождение, оттого-то на корабле и шло такое веселье. На палубе плясали матросы, а когда к ним вышел молодой принц, взвились сотни ракет, и стало светло, как днем,— русалочка даже испугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула головку, и ей почудилось, будто это звездочки упали с неба к ней в море. Никогда еще не видела она подобной огненной потехи: большие солнца вертелись колесом, великолепные огненные рыбы крутили хвостами в воздухе — и все это отражалось в недвижной светлой воде. На корабле же было так светло, что можно было различить канат в его снастях, а людей и подавно. Ах, до чего хорош собою был молодой принц! Он пожимал руки людям и улыбался, а музыка все гремела и гремела в тишине ясной ночи.
Время было уже позднее, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца принца. Разноцветные огни погасли, ракеты больше не взлетали в воздух, не гремели и пушечные выстрелы — зато загудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем, то и дело заглядывая в кают-компанию, а корабль мчался все быстрей и быстрей, паруса развертывались один за другим. Но вот началось волнение, сгустились тучи и засверкали молнии. Разыгралась буря, и матросы бросились убирать паруса. Сильная качка трепала огромный корабль, а ветер мчал его по бушующим волнам. Вокруг вырастали высокие черные водяные горы, грозившие сомкнуться над мачтами, но корабль, как лебедь, падал в бездну между водяными стенами, потом снова взлетал на валы, громоздящиеся друг на друга. Русалочке такое плавание очень нравилось, а морякам приходилось туго. Корабль скрипел и трещал, толстые доски гнулись под сильными ударами, волны перекатывались через палубу. Вот грот-мачта переломилась, как тростинка, корабль лег набок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла, какая опасность грозит кораблю; ей и самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. Как темно вдруг стало, хоть глаз выколи! Но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь
увидела всех людей на корабле; каждый спасался, как мог. Она постаралась отыскать глазами принца и увидела, когда корабль развалился, что юноша тонет. Сначала русалочка очень обрадовалась, поняв, что теперь он попадет к ним на дно, но потом вспомнила, что люди в воде жить не могут и если он и попадет во дворец ее отца, то лишь мертвым.
Нет, нет, он не должен умереть! И она поплыла между бревнами и досками, позабыв о том, что они в любую минуту могут ее раздавить. Пришлось ей то нырять вглубь, то высоко взлетать вместе с волнами, но вот, наконец, она догнала принца, который уже почти выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю. Руки и ноги отказались ему служить, глаза закрылись, и он бы погиб, не явись на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и понеслась вместе с ним по воле волн.
К утру непогода стихла. От корабля не осталось и щепки, а солнце, красное и пылающее, опять засияло над водой, и его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живой румянец, но глаза юноши все еще не открывались.
Русалочка откинула мокрые волосы с его лба и поцеловала этот высокий, красивый лоб. Ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, украшающего ее садик. Она поцеловала его снова и от всего сердца пожелала, чтобы он остался жив.
Наконец показался берег и вздымавшиеся на нем высокие синеватые, уходящие в небо горы, на вершинах которых, точно стаи лебедей, белели снега. Внизу, у самого берега, зеленели густые леса, неподалеку высилось какое-то здание,— видимо, церковь или монастырь. В саду, окружающем здание, росли апельсинные и лимонные деревья, а у ворот стояли высокие пальмы. Море вдавалось в белый песчаный берег небольшим глубоким заливом, где вода была совсем спокойна. Сюда-то и приплыла русалочка. Она положила принца на песок, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше, освещенная теплыми лучами солнца.
В это время в высоком белом здании зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, торчавшие из воды, покрыла себе волосы и грудь морской пеной — теперь никто не различил бы в этой пене ее светлого личика — и стала задать, не придет ли кто на помощь бедному принцу.
Ждать пришлось недолго: к принцу подошла молодая девушка и сначала очень испугалась, но быстро успокоилась, созвала людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем тем, кто стоял вокруг него. А ей
не улыбнулся — он ведь не знал, что это она спасла ему жизнь! Грустно стало русалочке. И когда принца увели в большое белое здание, она, печальная, нырнула в воду и уплыла домой.
Она всегда была тихой и задумчивой, а теперь стала еще задумчивее. Сестры спрашивали, что она видела на море, но она молчала.
Не раз, и вечером и утром, подплывала она к тому месту, где оставила принца; видела, как созрели и были сорваны плоды в садах, видела, как на высоких горах стаял снег,— но принц не появлялся; и с каждым разом грустя все больше и больше, она возвращалась домой. Единственной ее отрадой было сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца. За цветами она больше не ухаживала, они росли по своей воле, даже на дорожках, переплетаясь длинными стеблями и листьями с ветвями деревьев; и вскоре в запущенный садик совсем перестал проникать свет.
Наконец, русалка не выдержала — рассказала обо всем одной из своих сестер; от нее о принце сейчас же узнали и все остальные сестры. Но больше никто,— не считая еще двух-трех русалок, которые никому об этом не говорили, кроме как самым близким своим подругам. Одна из русалок тоже видела и праздник на корабле,
и самого принца, и даже знала, где находятся его владения.
— Поплывем вместе, сестрица! — сказали русалке сестры и рука об руку поднялись на поверхность моря близ того места, где находился дворец принца.
Дворец был из светло-желтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо к морю. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые. Сквозь прозрачные стекла высоких окон были видны роскошные покои; всюду висели дорогие шелковые занавески, всюду были разостланы ковры, а стены украшали большие картины, которые так интересно было рассматривать. Посреди огромного зала журчал большой фонтан, и струи его били высоковысоко под потолок. Потолок был в виде стеклянного купола, и лучи солнца проникали сквозь него внутрь, освещая воду и чудные растения, которые росли в обширном водоеме.
Теперь русалочка знала, где живет принц; и вот она стала часто приплывать ко дворцу вечерами или ночью. Ни одна из сестер не осмеливалась так близко подплывать к земле, как младшая,— она вплывала даже в узкий канал, который протекал прямо под великолепным
мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца; а тот был уверен, что сидит при свете месяца в полном одиночестве.
Много раз видела русалочка, как он катается с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной реющими флагами. Она выглядывала из зарослей зеленого тростника, и если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развевающуюся на ветру, то принимали ее за лебедя, расправляющего крылья.
Не раз также слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу; они рассказывали о нем много хорошего. И русалочка, радуясь, что спасла ему жизнь, когда его, полумертвого, швыряли волны, вспоминала о том, как крепко она прижимала тогда к груди его голову и как нежно целовала его. А он ничего об этом не знал, она даже и присниться ему не могла.
Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильней и сильней тянуло ее к ним. Их мир казался ей гораздо более широким, чем ее мир: они могли переплывать море на своих кораблях, могли взбираться на высокие горы к самым облакам, а земли, которыми они владели, их леса и поля тянулись так далеко, что она не могла охватить их взглядом. Ей так хотелось побольше узнать о людях, но сестры не могли ответить на все
ее вопросы, и она обратилась к бабушке. Старуха хорошо знала «высший мир», как она правильно называла землю, лежавшую над морем.
— А те люди, что не тонут,— спрашивала русалочка,— они живут вечно? Они не умирают, как умираем мы тут внизу, в море?
— Вовсе нет! — ответила старуха — Они тоже умирают. И век их даже короче нашего. Но хоть мы и живем триста лет, а когда нам приходит конец, от нас остается лишь пена морская, и нет у нас могил наших близких, мы не одарены бессмертной душой, и наша русалочья жизнь кончается со смертью тела. Мы — как этот тростник; срезанный стебель его уже не зазеленеет вновь! А у людей есть душа, которая живет вечно, она живет и после того, как тело превратится в прах, и тогда улетает в прозрачную высь, к сверкающим звездам. Как мы всплываем на поверхность моря и видим землю, где живут люди, так и они поднимаются в неведомые блаженные страны, которых нам не увидеть никогда!
— Ах, почему у нас нет бессмертной души! — грустно проговорила русалочка — Я бы все свои сотни лет отдала за один день человеческой жизни, чтобы потом вкусить небесного блаженства.
— Что за вздор! — сказала старуха.— Ты об этом и не думай. Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле.
— Неужели и я после смерти превращусь в морскую пену и не услышу больше музыки волн, не увижу прекрасных цветов и огненного солнца! Неужели мне никак не удастся обрести вечную душу?
— Нет,— ответила бабушка,— Но если кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, если он отдастся тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и попросит священника соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу — тогда его душа перейдет в твое тело и ты тоже познаешь небесное блаженство, доступное людям. Этот человек вдохнет в тебя душу и сохранит свою. Но с тобой этого никогда не будет: твой рыбий хвост, который у нас считается красивым, люди находят безобразным. Ведь они мало смыслят в красоте; по их мнению, нельзя быть красивым без двух неуклюжих подпорок — «ног», как они их называют.
Глубоко вздохнула русалочка и печально посмотрела на свой рыбий хвост.
— Будем жить да радоваться! — сказала старуха — Повеселимся вволю свои триста лет, а это немалый срок! Тем слаще покажется нам отдых после смерти. Сегодня вечером у нас при дворе будет бал!
Вот было великолепие, какого не увидишь на земле! Стены и потолок громадного танцевального зала были
из толстого, но прозрачного стекла, а вдоль стен рядами лежали сотни огромных розовых и травяно-зеленых раковин с голубыми огоньками внутри. Огни эти ярко освещали весь зал и, проникая сквозь стеклянные стены, озаряли самое море. Видно было, как к стенам подплывают стаи больших и маленьких рыб, сверкающих то пурпурной, то золотистой или серебристой чешуей.
Посреди зала вода мчалась широким потоком, и в ней танцевали водяные и русалки под свое чудесное пение. У людей таких дивных голосов не бывает. Русалочка пела лучше всех, и весь двор ей рукоплескал. На минуту ей сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде — ни в море, ни на земле — нет такого чудесного голоса, как у нее; но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце и грустить о том, что у нее нет бессмертной души. Вскоре она незаметно выскользнула из дворца и, пока там пели и веселились, грустно сидела в своем садике; сквозь толщу воды к ней доносились звуки музыки. И она думала: «Вот он опять, наверное, катается в лодке! Как я люблю его! Больше, чем отца и мать! Мысленно я постоянно с ним, ему я охотно вверила бы свое счастье, всю свою жизнь! Ради него и бессмертной души я пошла бы на все! Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда ее боялась, но, может
быть, она теперь что-нибудь посоветует и как-нибудь поможет мне».
И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось плыть этой дорогой. Тут не росло ни цветов, ни даже водорослей, всюду был только голый серый песок Вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, увлекая за собой в глубину все, что встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между этими бурлящими водоворотами. Потом на пуги к логову ведьмы ей встретилось еще большее пространство, покрытое горячим пузырившимся илом; это место ведьма называла своим торфяным болотом. За ним показалось и жилье ведьмы, окруженное каким-то диковинным лесом: вместо деревьев и кустов в нем были полипы — полуживотные-полурастения, похожие на стоголовых змей, выросших прямо из песка; ветви их были подобны длинным осклизлым рукам, а пальцы извивались, как черви. Полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими ветвями от корня до самой верхушки, гибкими щупальцами они впивались во все, что только им попадалось, и уже не выпускали добычи. Русалочка испуганно остановилась, и сердце ее застучало от страха. Она уже готова была уплыть обратно, но вспомнила о принце, о бессмертной душе — и к ней
вернулось мужество. Крепко обмотав вокруг головы свои длинные волосы, чтобы их не зацепили полипы, она скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между чудовищами, которые протягивали к ней свои извивающиеся щупальца. Она видела, до чего крепко, словно железными клещами, держали они все, что удалось схватить: белые скелеты утопленников, корабельные рули, ящики, остовы животных, даже одну русалочку: полипы поймали и задушили ее. Это было, пожалуй, страшнее всего!
Но вот наша русалочка очутилась на болотистой лесной поляне, где кувыркались большие жирные водяные ужи, показывая свое противное светло-желтое брюхо. Посреди поляны стоял дом, выстроенный из белых человеческих костей; тут же сидела и сама морская ведьма, кормившая изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек Гадких жирных ужей она называла «цыплятками» и позволяла им ползать по своей большой ноздреватой, как губка, груди.
— Знаю, знаю, зачем ты пришла! — сказала русалочке морская ведьма,— Глупости затеваешь! Ну, да я исполню твое желание, потому что это принесет тебе горе, красавица! Ты хочешь взамен рыбьего хвоста получить две подпорки и ходить, как люди; хочешь, чтобы молодой принц тебя полюбил, а ты получила и его, и бессмертную душу!
И ведьма захохотала так громко и безобразно, что и жаба, и ужи свалились с нее и растянулись на песке.
— Ну ладно, пришла ты вовремя! — продолжала ведьма— А приди ты завтра поутру, было бы уже поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше, чем в будущем году. Я приготовлю тебе питье, а ты возьмешь его, подплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в две очаровательные, как скажут люди, ножки, но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят насквозь острым мечом. Зато каждый, кто тебя увидит, скажет, что такой прелестной девушки он в жизни не видывал! Ты сохранишь свою легкую, скользящую походку — ни одна танцовщица не сравнится с тобой; но знай, что каждый твой шаг будет тебе причинять такую боль, как будто ты ступаешь по острым ножам, как будто кровь сочится из твоих ножек Если ты согласна все это вытерпеть, я тебе помогу.
— Да! — ответила русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе.
— Знай также,— продолжала ведьма,— что, если ты примешь человеческий образ, тебе уже не быть русалкой никогда. Ты больше не сможешь спускаться к сестрам и во дворец отца. И если принц не полюбит тебя так, что ради тебя забудет отца и мать, если он не прилепится
к тебе душой и телом и не попросит священника соединить ваши руки, чтобы вам стать мужем и женой,— ты не обретешь бессмертной души. Если же он возьмет в жены другую, то на первой же заре после их брака сердце твое разорвется на части и ты превратишься в морскую пену.
— Пусть! — проговорила русалочка и побледнела как смерть.
— Кроме того, ты должна заплатить мне за помощь! — сказала ведьма — А я возьму не дешево. Здесь, на дне морском, ни у кого нет голоса красивее твоего, и им ты надеешься обворожить принца,— но ты должна отдать свой голос мне. За свой драгоценный напиток я возьму самое лучшее, что у тебя есть: я ведь должна приправить этот напиток своей собственной кровью, для того чтобы он стал острый, как лезвие меча!
— Если ты возьмешь мой голос, что же у меня останется? — спросила русалочка.
— Твое прелестное лицо, твоя скользящая походка и твои говорящие глаза — этого вполне достаточно, чтобы покорить человеческое сердце. Ну, полно, не бойся: ты высунешь язычок, а я его отрежу в уплату за волшебный напиток.
— Пусть будет так! — сказала русалочка.
И ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.
— Чистота — лучшая красота! — сказала она и обтерла котел связкой живых ужей, потом расцарапала себе грудь, и черная кровь закапала в котел, над которым вскоре заклубился пар, принимавший столь причудливые формы, что страшно было смотреть на него. Ведьма поминутно бросала в котел все новые и новые снадобья; и когда питье закипело, послышались звуки, похожие на плач крокодила. Наконец зелье сварилось; на вид оно казалось прозрачной водой.
— На, бери! — буркнула ведьма, отдавая его русалочке, которая не могла больше ни петь, ни говорить.
— Если полипы захотят тебя схватить, когда ты поплывешь назад моим лесом,- сказала ведьма,- брызни на них только одну каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков.
Но русалочке это не понадобилось: полипы с ужасом отворачивались, едва завидев напиток, сверкавший в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она по лесу, миновала болотистую низину и бурлящие водовороты.
Но вот и отцовский дворец; огни в большом зале были потушены, вероятно все уже спали. Русалочка не посмела войти во дворец — ведь она была немая и собиралась навеки покинуть отчий дом. Сердце ее было готово разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад
и, сорвав по цветку с клумбы каждой из своих сестер, послала родным тысячу воздушных поцелуев, потом стала подниматься наверх сквозь толщу темно-голубой воды.
Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на нижнюю ступеньку великолепной мраморной лестницы, озаренной волшебным голубым сиянием месяца. Русалочка выпила огненный, острый напиток, и ей показалось, что ее нежное тело пронзил обоюдоострый меч; она потеряла сознание и упала замертво. Очнулась она, когда над морем уже сияло солнце, и сразу ощутила жгучую боль; зато перед ней стоял юный красавец принц и смотрел на нее своими черными, как уголь, глазами. Русалочка потупилась и увидела, что вместо рыбьего хвоста у нее теперь выросли две восхитительные белые ножки, маленькие, как у девочки. Но она была совсем нагая и поскорее закуталась в свои длинные густые волосы. Принц спросил, кто она такая и как сюда попала, но она только грустно и кротко смотрела на него своими темно-голубыми глазами — говорить она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду: с каждым шагом русалочке чудилось, будто она наступает на иглы или острые ножи; но она терпеливо переносила боль и шла рука об руку с принцем, легкая, светлая, как мыльный пузырек; принц и все
окружающие не могли надивиться на ее прелестную скользящую походку.
Русалочку нарядили в дорогие муслиновые и шелковые платья, и она стала первой красавицей при дворе, но по-прежнему оставалась немой — не могла ни петь, ни говорить. Однажды красивые рабыни, все в шелку и золоте, предстали перед принцем и его царственными родителями и запели песню. Одна рабыня пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Русалочке стало очень грустно, ведь когда-то и она могла петь, и пела гораздо лучше! «Ах, если бы он только знал, что я навсегда рассталась со своим голосом для того, чтобы вечно быть возле него, моего любимого!» — думала она.
Потом рабыни стали танцевать под звуки чарующей музыки. Тут и русалочка подняла свои хорошенькие белые ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком воздушном танце — так не танцевал еще никто. Каждое движение подчеркивало ее красоту, а русалочьи глаза говорили сердцу больше, чем пение рабынь.
Все пришли в восторг, особенно принц, назвавший русалочку своим маленьким найденышем. Она все танцевала и танцевала, хотя всякий раз, как ножки ее касались пола, ей было так больно, как будто она наступала на острый нож. Принц сказал, что она всегда будет жить
у него, и позволил ей спать на бархатной подушке перед дверьми его комнаты.
Он приказал сшить ей мужское платье, чтобы она вместе с ним могла ездить верхом. Они проезжали по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви гладили маленькую всадницу по плечам; они взбирались на высокие горы, и хотя из ее нежных ножек сочилась кровь и все это видели, она только смеялась и вслед за принцем поднималась на горные вершины: там они любовались облаками, плывшими у их ног, словно стаи птиц, улетающих в дальние страны.
А дома, во дворце принца, ночью, когда все спали, русалочка спускалась по мраморной лестнице, выходила на берег моря и, погрузив пылавшие, как в огне, ноги в холодную морскую воду, думала о своих родных, оставшихся на дне морском.
Однажды ночью из воды выплыли рука об руку ее сестры и запели печальную песню. Она кивнула им, а они, узнав ее, рассказали, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а однажды она увидела вдали даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не выплывала на поверхность, и самого морского царя с короной на голове. Они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как ее сестры.
День ото дня принц все сильнее привязывался к русалочке, но любил ее только, как любят милых, послушных детей,— сделать ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило. А ведь ей необходимо было стать его женою, иначе она не могла обрести бессмертную душу; и если бы он женился на другой, русалочка превратилась бы в морскую пену.
«Ты любишь меня больше всех на свете, правда?» — казалось, спрашивали глаза русалочки, в то время как принц обнимал ее и целовал в прекрасный лоб.
— Да, ты мне дороже всех! — говорил принц — У тебя самое доброе сердце на свете, ты предана мне, как никто, и ты похожа на молодую девушку, которую я видел раз и, верно, больше не увижу. Однажды я плыл на корабле, а корабль разбился, и волны выбросили меня на берег вблизи дивного храма, в котором молодые девушки служат богу. Младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь. Я видел ее всего два раза, но лишь ее одну в целом мире мог бы я полюбить! Однако ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя; никогда я не расстанусь с тобою!
«Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь! — думала русалочка.— Я вынесла его из волн морских на берег
и положила в лесу, близ храма, а сама скрылась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красавицу девушку, которую он любит больше, чем меня! — И русалочка глубоко, глубоко вздыхала — плакать она не могла,— Но та девушка принадлежит храму, сказал он, она не вернется в мир, и они никогда не встретятся! А я все время рядом с ним, вижу его каждый день, могу за ним ухаживать, любить его, отдать за него жизнь!»
Но вот стали поговаривать, что принц собирается жениться на красавице — дочери своего соседа, короля, и потому снаряжает в плавание свой великолепный корабль. Принц поедет к соседу как будто затем, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом деле, чтобы увидеть его дочь; с ним будет большая свита. Слушая эти речи, русалочка только покачивала головой и смеялась: кто-кто, а она лучше всех знает мысли принца!
— Я должен ехать! — говорил он ей — Мне надо познакомиться с прекрасной принцессой, этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, а я никогда ее не полюблю! Она ведь не похожа на ту красавицу, которую мне так напоминаешь ты. Если же мне, наконец, придется избрать себе невесту, я, скорее всего, выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами!
И он целовал ее в алые губы, играл ее длинными волосами и прижимал голову к ее сердцу, которое так жаждало человеческого счастья и бессмертной души.
— Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка? — говорил он, когда они уже прибыли на великолепный корабль, который должен был отвезти их в соседнее королевство.
И принц рассказывал ей о морских штормах и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубине моря, и чудесах, которые видят водолазы. Но русалочка только улыбалась, слушая его рассказы,— она-то лучше всех знала, какое оно, дно морское.
Однажды в ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны. И вот ей показалось, что она видит отцовский дворец и свою старую бабушку, которая стоит на вышке в серебряной короне и смотрит сквозь волнующуюся воду на киль корабля. Вскоре на поверхность моря всплыли сестры русалочки; они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки, а она, кивнув им головой, улыбнулась и хотела было рассказать о том, как ей здесь хорошо, но в это время к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду, а юнга подумал, что это белая морская пена мелькнула в волнах.
Наутро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего государства. И вот в городе зазвонили колокола, с высоких башен затрубили в трубы, а на площадях выстроились полки солдат с блестящими штыками и реющими знаменами. Начались празднества, бал следовал за балом, но принцессы в столице еще не было — она воспитывалась где-то в далеком монастыре, куда ее отдали, чтобы она научилась всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она.
Русалочка жадно смотрела на нее и должна была сознаться, что еще не видела более красивого и милого лица. Кожа у принцессы была нежная, прозрачная, а из-под длинных черных ресниц улыбались темно-синие добрые глаза.
— Это ты! — воскликнул принц,— Это ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!
И он крепко прижал к сердцу свою зарумянившуюся невесту.
— Как я счастлив! — сказал он русалочке — Сбылось то, о чем я и мечтать не смел! Ты порадуешься моему счастью — ведь никто так не любит меня, как ты!
Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее уже разрывается, а свадьба принца должна была ее убить и превратить в морскую пену!
Церковные колокола звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. На всех алтарях в драгоценных серебряных лампадах горело ароматное масло. Священники кадили ладаном. Жених с невестой подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка стояла разодетая в шелк и золото, держа в руках шлейф невесты, но уши ее не слышали звуков праздничной музыки, глаза не видели, как совершается обряд венчания, — она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла с жизнью.
Новобрачные должны были отплыть на родину принца в тот же вечер. Пушки палили, флаги развевались, на палубе корабля был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, весь устланный мягкими подушками. Тут, в шатре, должны были новобрачные провести эту прохладную тихую ночь. Но вот ветер надул паруса, корабль легко скользнул по волнам и помчался вперед по светлому морю.
Как только смерклось, на корабле зажглось множество разноцветных фонариков, а матросы пустились в пляс на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые всплыла на поверхность моря и увидела такое же великолепие и веселье. И вот она вспорхнула и понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая врагом. Все выражали ей свое восхищение:
никогда еще не танцевала она так чудесно! Ее нежные ножки резало, как ножами, но этой боли она не чувствовала, ведь сердцу ее было еще больнее: она знала, что в последний раз видит того человека, ради которого оставила родных и отцовский дом, отдала свой прелестный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не подозревал. Последнюю ночь дышала она одним воздухом с ним, видела синее море и звездное небо, зная, что скоро наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. У русалочки ведь не было души и обрести ее не удалось. Далеко за полночь шло на корабле веселье и звучала музыка, а русалочка смеялась и плясала с мыслью о смерти в сердце. Принц в это время целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями. Рука об руку удалились они на покой в свой великолепный шатер.
На корабле воцарилась тишина, один лишь рулевой бодрствовал у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был ее убить. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры; они были бледны, как и она, но их длинные прекрасные волосы не развевались больше по ветру — они были острижены.
— Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти. А она дала нам вот этот нож,- видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они срастутся в рыбий хвост и ты опять станешь русалкой, погрузишься в родное море и превратишься в соленую морскую пену не раньше, чем проживешь свои триста лет. Но спеши! Или он, или ты — кто-нибудь из вас должен умереть до восхода солнца! Наша старая бабушка так печалится, что от горя потеряла все свои седые волосы, а наши волосы срезаны ножницами ведьмы. Убей принца и вернись к нам! Спеши! Видишь, на небе показалась алая полоса. Скоро взойдет солнце, и ты умрешь!
И они глубоко-глубоко вздохнули и погрузились в море.
Приподняв пурпуровую полу шатра, русалочка увидела, что головка прелестной новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась, поцеловала его в прекрасный лоб и посмотрела на небо: там разгоралась утренняя заря. Потом она взглянула на острый нож и опять устремила взор на принца, а тот в это время произнес во сне имя своей молодой жены: значит, она одна была у него в мыслях! И нож дрогнул в руках русалочки. Но промелькнуло еще мгновение, и она бросила
нож в волны, которые покраснели, точно обагренные кровью в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной.
Над морем поднялось солнце. Лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала, что умирает. Она видела ясное солнце и какие-то прозрачные, волшебные создания, во множестве реявшие над ней; сквозь них она видела белые паруса корабля и алые облака в небе. Голос призраков звучал, как музыка, но музыка столь возвышенная, что люди не могли бы ее расслышать, как не могли бы увидеть и этих беспечных существ. У них не было крыльев, но они плавали в воздухе, невесомые и прозрачные. И вот русалочка почувствовала, что и сама становится похожей на них и все больше и больше отделяется от морской пены.
— Куда я иду? — спросила она, поднимаясь в воздух; и голос ее прозвучал так дивно и одухотворенно, что земная музыка не смогла бы передать этих звуков.
— К дочерям воздуха! — ответили ей воздушные создания— У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может только, если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут заслужить ее себе добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие
страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим людям отраду и исцеление. Триста лет мы посильно делаем добро, а потом получаем в награду бессмертную душу и вкушаем вечное блаженство, доступное человеку. Ты, бедная русалочка, все сердцем стремилась к тому же, ты любила и страдала — поднимись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь заслужить бессмертную душу добрыми делами и обретешь ее через триста лет!
И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу, и впервые на глазах ее показались слезы.
На корабле в это время все опять пришло в движение, и русалочка увидела, как ищут ее новобрачные. Печально смотрела она на волнующуюся морскую пену, словно зная, что русалочка бросилась в волны. Невидимо поцеловала русалочка новобрачную в лоб, улыбнулась принцу и вместе с другими дочерьми воздуха поднялась к розовым облакам, плававшим в небе.
—Через триста лет мы вот так же поднимемся в божье царство!
—Может быть, и раньше! — прошептала одна из дочерей воздуха.— Невидимками влетаем мы в жилища людей, где есть дети, и если находим там доброе, послушное дитя, которое радует своих родителей и достойно их
любви, то улыбаемся — и срок нашего испытания сокращается. Ребенок не видит нас, когда мы влетаем в комнату, и если мы радуемся на него и улыбаемся,— из нашего трехсотлетнего срока вычитается год. Если же мы встречаем злого, непослушного ребенка, мы горько плачем — и каждая слеза прибавляет лишний день к долгому сроку нашего испытания.
ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ
Видал ли ты когда-нибудь настоящие старинные шкафы, все почерневшие от старости, с деревянными завитушками и резным растительным орнаментом? В одной жилой комнате стоял как раз такой шкаф, доставшийся своим хозяевам по наследству от прабабушки. Шкаф был сверху донизу покрыт резьбой — деревянными розами и тюльпанами; маленькие олени высовывали свои рогатые головки из причудливых завитушек, а на самом видном месте мастер вырезал фигуру человека. Забавно было смотреть на него: он скорчил гримасу и осклабился; однако никак нельзя было сказать, что он смеется. Ноги у человечка были козлиные, на лбу торчали рожки, длинная борода свешивалась на грудь. Дети всегда называли его «козлоногий обер-унтер-генерал-капитан-сержант», хотя это звание было очень трудно произносить и редко кто его удостаивался; да и вырезать человечка из дерева стоило большого труда. Тем не менее он красовался на шкафу, вечно косясь на подзеркальник, потому что там стояла
прелестная маленькая фарфоровая пастушка в башмачках с позолотой и в золоченой шляпке. Платье ее было изящно подобрано сбоку и украшено красной розой, а в руке она держала пастушеский посох. Пастушка была очаровательна! Почти совсем рядом с ней стоял маленький трубочист, черный, как уголь, но тоже фарфоровый. Он был чистенький и красивый, ничуть не хуже всякого другого, и должен был только изображать трубочиста — мастер мог бы с одинаковым успехом сделать его и принцем; не все ли равно — трубочист или принц?
Трубочист стоял, приняв красивую позу и держа в руках лесенку, белолицый и румяный, как девушка,— но это, пожалуй, было ошибкой: не мешало бы его хоть чуточку выпачкать. Он стоял почти рядом с пастушкой, потому что их так поставили; а раз уж они очутились рядом, то и обручились — они ведь очень подходили друг к другу: оба молодые, сделанные из одинакового фарфора и одинаково хрупкие.
На подзеркальнике рядом с ними стояла еще одна кукла, но она была в три раза крупнее их. Это был старый китаец, который умел кивать головой. Он тоже был фарфоровый и говорил, что приходится дедом маленькой пастушке, и хотя, конечно, не мог это доказать, но ут-верщал, что имеет право распоряжаться ее судьбой-
поэтому он кивал козлоногому обер-унтер-генерал-ка-питан-сержанту, который посватался за пастушку.
— Вот твой будущий муж,— сказал однажды пастушке старый китаец — Судя по всему, он сделан из красного дерева. Выйдешь за него, и тебя будут называть супругой козлоногого обер-унтер-генерал-капитан-сержанта; у него весь шкаф набит серебром, не говоря уж о том, что припрятано в потайных ящиках.
— Я не хочу к нему в темный шкаф,— возразила маленькая пастушка.— Говорят, будто он держит там взаперти одиннадцать фарфоровых жен!
— Ну, значит, ты будешь двенадцатой! — отрезал китаец.— Сегодня ночью, как только в старом шкафу раздастся треск, вы сыграете свадьбу,— это так же верно, как то, что я китаец! — и, кивнув головой, он уснул.
А маленькая пастушка заплакала, посмотрела на своего милого дружка — фарфорового трубочиста — и сказала:
— Прошу тебя: уйдем отсюда в широкий мир; здесь нам оставаться нельзя!
— Я хочу того, чего хочешь ты,— ответил ей маленький трубочист,— уйдем хоть сейчас! Уверен, что смогу прокормить тебя своим ремеслом.
— Ах, если бы нам поскорее спуститься с подзеркальника! — вздохнула пастушка — Я буду счастлива, только когда вырвусь с тобой на волю.
Трубочист утешил ее, потом показал ей, как удобнее спуститься вниз по бордюру и позолоченным резным ножкам подзеркальника. Тут им очень пригодилась его лесенка, и вот они уже ступили на пол; посмотрели на шкаф — видят, что там начался переполох.
Резные олени еще больше вытянули шеи, насторожили рога и принялись крутить головой, а козлоногий обер-унтер-генерал-капитан-сержант высоко подпрыгнул и крикнул старому китайцу:
— Они сбежали, сбежали!
Беглецы слегка испугались и быстро прыгнули в выдвижной ящик под окном.
В этом ящике хранились три-четыре неполные колоды карт и крошечный кукольный театр, который был расставлен, насколько это позволяло место. В театре шло представление. В первом ряду сидели все дамы — червонные, бубновые, трефовые и пиковые — и обмахивались своими тюльпанами. Позади них стояли валеты, у каждого из них было по две головы — одна вверху, другая внизу. Пьеса была о двух влюбленных, которым никак не удавалось соединиться, и пастушка, глядя на них, заплакала — спектакль напомнил ей ее собственную участь.
— Ах, я не могу больше выдержать! — пролепетала она — Выберемся отсюда.
Но когда они снова очутились на полу и посмотрели на свой подзеркальник, то увидели, что старый китаец проснулся; он сдвинулся с места и куда-то переползал сидя — он всегда сидел скрестив ноги, а ходить не умел.
— Старый китаец гонится за нами! — вскрикнула маленькая пастушка и так испугалась, что упала на свои фарфоровые коленки.
— Вот что мне пришло в голову,— сказал трубочист— Залезем с тобой в большую вазу для пряностей, вон ту, что стоит в углу. Ляжем на лепестки роз и лаванды и будем оттуда бросать соль в глаза китайцу, если он сунется к нам.
— Это мало поможет! — возразила пастушка.— Кроме того, я знаю, что старый китаец и ваза были когда-то помолвлены, а раз они любили друг друга, то это чувство не могло исчезнугь бесследно. Нет, нам останется только одно — выбраться в широкий мир.
— А ты не боишься тронуться в путь со мной? — спросил трубочист,— Подумала ты о том, как обширен этот мир, о том, что нам уже сюда не вернуться?
— Да, подумала! — ответила пастушка.
Трубочист с решительным видом посмотрел на нее и сказал:
— Я знаю лишь один путь — дымоход! А ты и вправду решаешься войти со мной в печку и потом караб-
каться по топке и дымоходу наверх? Когда мы наконец доберемся до трубы, уж тут-то я сумею себя показать: мы поднимемся на такую высоту, что догнать нас не смогут; а на самом верху будет дыра — выход в широкий мир.
И трубочист повел пастушку к печной дверце.
— Ах, как там черно! — воскликнула она, но все же влезла вместе с трубочистом в печку и поползла через топку в дымоход, где не было видно ни зги.
— Ну вот, мы и в дымоходе! — сказал трубочист — Посмотри, какая прелестная звездочка сияет наверху!
С неба на них глядела самая настоящая звезда; она сияла прямо над ними, словно хотела указать им выход. А они ползли и карабкались все выше и выше — и какой это был тяжелый путь! Так высоко пришлось им взбираться, так высоко! Но трубочист помогал пастушке, поднимал ее, поддерживал и указывал, куда ей лучше ставить свои фарфоровые ножки. Так они добрались до самого верха трубы и уселись на ее краю, чтобы как следует отдохнуть,— ведь немудрено, что они устали после такой дороги.
Над ними расстилалось небо, усеянное звездами, а внизу виднелись крыши города. Трубочист и пастушка озирались по сторонам, глядя на этот огромный мир. Бедная пастушка раньше даже не представляла себе, что
он такой; она положила головку на плечо трубочисту и так зарыдала, что позолота посыпалась с ее корсажа.
— Нет, это уж слишком! Я не в силах жить здесь. Мир слишком велик! — воскликнула она — Ах, если бы снова очутиться на нашем подзеркальнике! Не успокоюсь, пока не вернусь обратно. Ведь пошла же я с тобой в широкий мир; а теперь и ты мог бы проводить меня домой, если хоть чуточку любишь!
Тогда трубочист принялся ее уговаривать и напомнил о старом китайце и о козлоногом обер-унтер-генерал-капитан-сержанте. Но пастушка плакала так горько, она так целовала своего милого трубочиста, что ему оставалось только уступить ей, хоть это и было неразумно.
С большим трудом спустившись по трубе, они снова принялись ползти по дымоходу вниз и наконец добрались до топки, где было очень темно; подойдя к закрытой печной дверце, они прислушались к тому, что происходит в комнате. Там было совсем тихо. Они выглянули из печки и… о ужас! — в самой середине комнаты, на полу, лежал старый китаец. Оказывается, он, когда погнался за беглецами, упал с подзеркальника и разбился на три части — спина у него откололась целиком, а голова откатилась в угол. Но козлоногий обер-унтер-генерал-ка-питан-сержант стоял на прежнем месте и раздумывал о случившемся.
— Ох, какой ужас! — воскликнула маленькая пастушка— Мой старенький дедушка разбился, и все из-за нас. Этого я не смогу пережить! — И она в отчаянии ломала свои крохотные ручки.
— Его еще можно починить, и починить превосходно! — заметил трубочист,— А ты не огорчайся так. Стоит лишь намазать ему спину клеем, а в горло вставить большую планку, и он будет совсем как новый; чего доброго, наговорит еще кучу неприятных слов.
— Ты так думаешь? — спросила пастушка, и оба они взобрались на подзеркальник, где стояли раньше.
— Вот видишь, какое большое путешествие мы совершили,— сказал трубочист,— А ведь могли бы и вовсе не трогаться с места!
— Только бы удалось починить дедушку! — вздохнула пастушка,— Дорого это будет стоить?
И старого китайца починили — в этом принимала участие вся семья. Спину ему склеили, в горло вставили планку, и он стал совсем как новый, только кивать головой уже не мог.
— Должно быть, вы очень уж много возомнили о себе, с тех пор как разбились,— сказал китайцу козлоногий обер-унтер-генерал-капитан-сержант,— А я все-таки не вижу, чем тут гордиться. Ну так как же? Выдадите ее за меня или нет?
Тогда трубочист и маленькая пастушка умоляюще посмотрели на старого китайца, опасаясь, как бы он не кивнул головой. Но кивать он уже не мог, а рассказывать при посторонних о том, что ему вставили планку в горло, было неприятно.
С тех пор обе фарфоровые фигурки так и стояли рядышком, благословляя планку в горле деда и продолжая любить друг друга, пока не разбились.
СТОЙКИЙ ОЛОЯННЫЙ СОЛДАТИК
Жили-были двадцать пять оловянных солдатиков. Все они родились от одной матери — старой оловянной ложки,— а значит, приходились друг другу родными братьями. Были они красавцы писаные: мундир синий с красным, ружье на плече, взгляд устремлен вперед!
«Оловянные солдатики!» — вот первое, что услыхали братья, когда открылась коробка, в которой они лежали. Это крикнул маленький мальчик и захлопал в ладоши. Солдатиков ему подарили в день его рождения, и он тотчас же стал расставлять их на столе. Оловянные солдатики походили друг на друга, как две капли воды, и лишь один отличался от своих братьев: у него была только одна нога. Его отливали последним, и олова на него не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как и другие на двух. И он-то как раз и отличился.
Мальчик расставил своих солдатиков на столе. Там было много игрушек, но красивее всех был чудесный замок из картона; сквозь его маленькие окна можно было
заглянуть внутрь и увидеть комнаты. Перед замком лежало зеркальце, оно было совсем как настоящее озеро, а вокруг стояли маленькие деревья. По озеру плавали восковые лебеди и любовались своим отражением. Все это радовало глаз, но очаровательней всего была молоденькая девушка, стоявшая на пороге широко раскрытых дверей замка. Она тоже была вырезана из картона. Юбочка ее была из тончайшей кисеи, узкая голубая ленточка спускалась с плеча к поясу. Ленточка была прикреплена сверкающей блесткой, очень большой,— она могла бы закрыть все личико девушки. Красавица эта была танцовщица. Она стояла на одной ножке, протянув руки вперед, а другую ногу подняла так высоко, что оловянный солдатик не сразу ее разглядел и сначала подумал, что красотка одноногая, как и он сам.
«Вот бы мне такую жену,— подумал оловянный солдатик,— Только она, наверное, знатного рода, она живет в замке, а я в коробке; к тому же нас там целых двадцать пять штук. Нет, в коробке ей не место, но познакомиться с ней все же не мешает!» — и, растянувшись во всю длину, он спрятался за табакеркой, тоже стоявшей на столе. Отсюда он мог не отрываясь смотреть на хорошенькую танцовщицу, которая все стояла на одной ножке, никогда не теряя равновесия.
Вечером всех других солдатиков уложили обратно в коробку, и люди тоже легли спать. Тогда игрушки сами стали играть в гости, потом в войну, а потом устроили бал. Оловянные солдатики завозились в коробке — им тоже захотелось поиграть, но они не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувыркался, а грифель пошел плясать по аспидной доске. Поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами! Только солдатик и танцовщица не сдвинулись с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув руки вперед, а он застыл с ружьем на плече и ни на минуту не спускал глаз с девушки.
Пробило двенадцать. И вдруг — щелк, щелк! Это раскрылась табакерка. Табака в табакерке не было; в ней сидел маленький черный тролль, очень искусной работы.
— Эй, оловянный солдатик! — крикнул тролль — Перестань пучить глаза на то, что не про твою честь!
Но оловянный солдатик сделал вид, будто не слышит.
— Ну погоди! Придет утро, увидишь! — сказал тролль.
Утром дети проснулись и переставили оловянного солдатика на окно. И тут — то ли по вине тролля, то ли по вине сквозняка — окно распахнулось, и наш солдатик полетел кувырком с третьего этажа. Вот страшно-то было! Он упал на голову, а его каска и штык застряли
между булыжниками — и он так и остался стоять на голове, задрав ногу кверху.
Служанка и младший из мальчиков сейчас же выбежали на улицу искать солдатика. Искали, искали, чуть было не раздавили его и все-таки не нашли. Крикни солдатик «Я тут!» — они, конечно, увидели бы его, однако он считал неприличным громко кричать на улице, будучи в мундире.
Но вот пошел дождь; он шел все сильней и сильней и, наконец, хлынул как из ведра, а когда перестал, на улицу выбежали уличные мальчишки. Их было двое, и один из них сказал:
— Смотри, вот оловянный солдатик. Давай-ка отправим его в плавание!
Они сделали из газеты лодочку, поставили в нее оловянного солдатика и пустили ее по водосточной канаве. Лодочка плыла, а мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Боже ты мой! Как бились волны о стенки канавки, какое сильное в ней было течение! Да и немудрено, ведь ливень был славный! Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то вертелась, и оловянный солдатик вздрагивал; но он был стойкий и все так же невозмутимо смотрел вперед, держа ружье на плече.
Вот лодочка подплыла под мостик, и стало так темно, что солдатику показалось, будто он снова попал в свою коробку.
«Куда ж это меня несет? — думал он — Все это проделки тролля! Вот если бы в лодочке со мной сидела маленькая танцовщица, тогда пускай бы хоть и вдвое темнее было».
В эту минуту из-под мостика выскочила большая водяная крыса — она здесь жила.
— А паспорт у тебя есть? — крикнула крыса — Предъяви паспорт.
Но оловянный солдатик молчал и еще крепче прижимал к себе ружье. Лодочка плыла все дальше, а крыса плыла за ней. Ох, как она скрежетала зубами, крича встречным щепкам и соломинкам:
— Держите его! Держите! Он не уплатил дорожной пошлины, не предъявил паспорта!
Лодочку понесло еще быстрее; скоро она должна была выплыть из-под мостика — оловянный солдатик уже видел свет впереди,— но тут раздался грохот до того страшный, что, услышав его, любой храбрец задрожал бы от страха. Подумать только-, канавка кончалась, и вода падала с высоты в большой канал! Оловянному солдатику грозила такая же опасность, какой подверглись бы мы, если бы течение несло нас к большому водопаду.
Но вот лодка выплыла из-под мостика, и ничто уже не могло ее остановить. Бедный солдатик держался все так же стойко, даже глазом не моргнул. И вдруг лодка завертелась,
потом накренилась, сразу наполнилась водой и стала тонуть. Оловянный солдатик уже стоял по шею в воде, а лодка все больше размокала и погружалась все глубже; теперь вода покрыла солдатика с головой. Он вспомнил о прелестной маленькой танцовщице, которую ему не суждено больше увидеть, и в ушах у него зазвучала песенка:
Вперед, о воин!
Иди на смерть.
Бумага совсем размокла, прорвалась, и солдатик уже стал тонуть, но в этот миг его проглотила большая рыба.
Ах, как темно было у нее в глотке! Еще темней, чем под мостиком, и в довершение всего так тесно! Но оловянный солдатик и тут держался стойко — он лежал, вытянувшись во всю длину, с ружьем на плече.
А рыба, проглотив его, стала неистово метаться, бросаясь из стороны в сторону, но вскоре затихла. Прошло некоторое время, и вдруг во тьме, окружавшей солдатика, молнией сверкнуло что-то блестящее, потом стало совсем светло и кто-то громко воскликнул: «Оловянный солдатик!»
Вот что произошло: рыбу поймали и снесли на рынок, а там кто-то купил ее и принес на кухню, где кухарка разрезала рыбу острым ножом и, увидев солдатика, взяла его двумя пальцами за талию и отнесла в комнату. Вся
семья собралась поглядеть на удивительного человечка, который совершил путешествие в рыбьем брюхе, но оловянный солдатик не возгордился.
Его поставили на стол, и вот — чего только не бывает на свете! — солдатик снова очутился в той же самой комнате, где жил раньше, и увидел тех же знакомых ему детей. Те же игрушки по-прежнему стояли на столе, в том числе и чудесный замок с прелестной маленькой танцовщицей. Она все так же прямо держалась на одной ножке, высоко подняв другую,— ведь она тоже была стойкая! Все это так растрогало оловянного солдатика, что из глаз его чуть не покатились оловянные слезы. Но солдату плакать не полагается, и он только посмотрел на танцовщицу — а она на него. Но ни он, ни она ни слова не вымолвили.
Вдруг один из малышей схватил солдатика и швырнул его прямо в печку — неизвестно зачем, должно быть, его подучил злой тролль, сидевший в табакерке.
Теперь солдатик стоял в топке, освещенный ярким пламенем, и было ему нестерпимо жарко; он чувствовал, что весь горит,— но что сжигало его — пламя или любовь, этого он и сам не знал. Краски на нем полиняли, но было ли то от горя, или же они сошли еще во время его путешествия, этого тоже никто не знал. Он не сводил глаз с маленькой танцовщицы, она тоже смотрела на него,
и он чувствовал, что тает, однако все еще стоял прямо, с ружьем на плече. Но вдруг дверь в комнату распахнулась, сквозняк подхватил танцовщицу, и она, как мотылек, впорхнула в печку, прямо к оловянному солдатику, вспыхнула ярким пламенем — и ее не стало. Туг оловянный солдатик совсем расплавился. От него остался только крошечный кусочек олова. На следующий день, когда служанка выгребала золу, она нашла в топке оловянное сердечко. А от танцовщицы осталась только блестка. Но она уже не сверкала — почернела, как уголь.
ВЕЛИКИЙ СКАЗОЧНИК
Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном.
Случилось это в зимний вечер 31 декабря 1899 года — всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия. Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века.
Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка выпала большая белая роза. Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья.
Я должен сказать, что этот случай с Андерсеном был тем явлением, которое старомодные писатели называли «сном наяву ». Просто это мне, должно быть, привиделось.
В тот зимний вечер, о котором я рассказываю,у нас в семье украшали елку. По этому случаю взрослые отправили меня на улицу, чтобы я раньше времени не радовался этой елке.
Я никак не мог понять, почему нельзя радоваться раньше какого-то твердого срока. По-моему, радость была не такая частая гостья в нашей семье, чтобы заставлять нас, детей, томиться, дожидаясь ее прихода.
Но, как бы там ни было, меня услали на улицу. Наступило то время сумерек, когда фонари еще не горели, помогли вот-вот зажечься. И от этого «вот-вот», от ожидания внезапно вспыхивающих фонарей у меня замирало сердце. Я хорошо знал, что в зеленоватом газовом свете тотчас появятся в глубине зеркальных магазинных витрин разные волшебные вещи: коньки «Снегурка», витые свечи всех цветов радуги, маски клоунов в маленьких белых цилиндрах, оловянные кавалеристы на горячих гнедых лошадях, хлопушки и золотые бумажные цепи. Непонятно почему, но от этих вещей сильно пахло клейстером и скипидаром.
Я знал со слов взрослых, что вечер 31 декабря 1899 года был совершенно особенный. Чтобы дождаться такого же вечера, нужно было прожить еще сто лет. А это, конечно, почти никому не удастся.
Я спросил у отца, что значит«особенный вечер». Отец объяснил мне, что этот вечер называется так потому, что он не похож на все остальные.
Действительно, зимний вечер в последний день 1899 года был не похож на все остальные. Снег падал медленно и важно, и хлопья его были такими большими, что казалось, с неба слетают на город легкие белые розы. И по всем улицам слышался глухой перезвон извозчичьих бубенцов.
Когда я вернулся домой, елку тотчас зажгли, и в комнате началось такое веселое потрескиванье свечей, будто вокруг лопались сухие стручки акации.
Окою елки лежала толстая книга — подарок от мамы. Это были сказки Ганса Христиана Андерсена.
Я сел под елкой и раскрыл книгу. В ней быю много разноцветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. Приходилось осторожно отдувать эту бумагу, чтобы увидеть картинки, еще липкие от краски.
Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в котором, как лепестки цветов, отражались розовые облака, и оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья.
Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на нарядную елку.
Прежде всего я прочел сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом — сказку о снежной королеве. Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, чеювеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.
Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту увидел самого Андерсена. С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным сном.
Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые.
Это я понял гораздо позже. Понял, что мне просто повезло, когда в канун трудного и великого двадцатого века мне
встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня светлой вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом. Тогда я уже знал пушкинские слова: «,Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — и был почему-то уверен, что Пушкин и Андерсен были закадычными друзьями и, встречаясь, хлопали, наверное, друг друга по плечу и смеялись.
Биографию Андерсена я узнал значительно позже. С тех пор она всегда представлялась мне в виде интересных картин, похожих на рисунки к его рассказам.
Андерсен всю свою жизнь умел радоваться, хотя детство его не давало для этого никаких оснований. Родился он в 1805 году, во время наполеоновских войн, в старом датском городе Оденсе, в семье сапожника.
Оденсе лежит в одной из котловин среди низких холмов на острове Фюн. В котловинах на этом острове почти всегда застаивался туман, а на вершинах холмов цвел вереск и уныло шумели сосны.
Если хорошенько подумать, на что был похож Оденсе, то, пожалуй, можно сказать, что он больше всего напоминал игрушечный город, вырезанный из почернелого дуба.
Недаром Оденсе славился своими резчиками по дереву. Один из них, средневековый мастер Клаус Берг, вырезал из черного дерева огромный алтарь для собора в Оденсе. Алтарь этот, величественный и грозный, наводил оторопь не только на детвору, но даже на взрослых.
Но датские резчики делали не только алтари и статуи святых — они предпочитали вырезать из больших кусков де-
рева те фигуры, что, по морскому обычаю, украшали форштевни парусных кораблей. То были грубые, но выразительные статуи мадонн, морского бога Нептуна, нереид, дельфинов и изогнувшихся морских коньков. Эти статуи раскрашивали золотом, охрой и кобальтом, причем клали краску так густо, что морская волна не могла в течение многих лет смыть ее или повредить.
По существу эти резчики корабельных статуй были поэтами моря и своего ремесла. Не зря же из семьи такого резчика вышел один из величайших скульпторов XIX века, друг Андерсена, датчанин Бертель Торвальдсен.
Маленький Андерсен видел замысловатые работы резчиков не только на кораблях, но и на дамах Оденсе.Должно быть, он знал в Оденсе тот старый-престарый дом, где год постройки был вырезан на деревянном толстом щите в рамке из тюльпанов и роз. Там же было вырезано целое стихотворение, и дети выучивали его наизусть. Он даже описал этот дом в одной из своих сказок.
А у отца Андерсена, как у всех башмачников, висела над дверью деревянная вывеска с изображением орла с парой голов — в знак того, что башмачники всегда шьют только парную обувь.
Дед Андерсена тоже был резчиком по дереву. В старости он занимался тем, что вырезал всякие причудливые игрушки
людей с птичьими головами или коров с крыльями — и раздаривал ши фигурки соседским мальчишкам. Дети радовались, а родители, как водится, считали старого резчика слабоумным и дружно насмехались над ним.
Андерсен вырос в бедности. Единственной гордостью семьи Андерсенов была необыкновенная чистота в их доме, ящик с землей, где густо разрастался лук, и несколько вазонов на окнах: в них цвели тюльпаны. Их запах сливался с дребезжащим перезвоном колоколов, стуком отцовского сапожного молотка, лихой дробью барабанщиков около казармы, свистом флейты бродячего музыканта и хриплыми песнями матросов, выводивших по каналу неуклюжие барки в соседний фиорд.
По праздникам матросы устраивали борьбу наузкой доске, перекинутой с борта одного корабля на другой. Побежденный падал в воду под хохот зрителей.
Во всем этом небогатом разнообразии людей, небольших событий, красок и звуков, окружавших тихого мальчика, он находил повод для того, чтобы выдумывать невероятные истории.
Пока он был еще слишком мал, чтобы решиться рассказывать эти истории взрослым. Решимость пришла позже. Тогда оказалось, что эти истории называются сказками, дают людям повод для размышления и приносят им много радости.
В доме у Андерсенов у мальчика был только один благодарный слушатель — старый кот по имени Карл. Но у Карла был
крупный недостаток кот часто засыпал, не дослушав до конца интересную сказку. Кошачьи годы, как говорится, брали свое. Но мальчик не сердился на старого кота: он все ему прощал за то, что Карп никогда не позволял себе сомневаться в существовании колдуний, хитреца Клумпе-Думпе, догадливых трубочистов, говорящих цветов и лягушек с брильянтовыми коронами на голове.
Первые сказки мальчик услышал от отца и старух из соседней богадельни. Весь день эти старухи пряли, сгорбившись, серую шерсть и бормотали свои нехитрые рассказы. Мальчик переделывал эти рассказы по-своему, украшая их, как бы расцвечивая свежими красками, и в неузнаваемом виде снова рассказывал их, но уже от себя, богаделкам. А те только ахали и шептались между собой, что маленький Христиан слишком умен и потому не заживется на свете.
Прежде чем рассказывать дальше, надо остановиться на том свойстве Андерсена, о котором я уже вскользь говорил: на его умении радоваться всему интересному и хорошему, что попадается на каждой тропинке и на каждом шагу.
Пожалуй, неправильно называть это свойство умением. Гораздо вернее назвать его талантом, редкой способностью замечать то, что ускользает от ленивых человеческих глаз.
Мы ходим по земле, но часто ли нам приходит в голову желание нагнуться и тщательно рассмотреть эту землю, рассмотреть все, что находится у нас под ногами. А если бы мы нагнулись или — даже больше — легли бы на землю и начали
рассматривать ее, то на каждой пяди мы бы нашли много любопытных и прекрасных вещей.
Разве не прекрасен сухой мох, рассыпающий из своих кувшинчиков изумрудную пыльцу, или цветок подорожника, похожий на сиреневый пышный султан? Или обломок перламутровой ракушки, такой крошечный, что из него нельзя сделать даже карманное зеркальце для куклы, но достаточно большой, чтобы бесконечно переливаться и блестеть таким же множеством опаловых красок, каким горит на вечерней заре небо над Балтикой?
Разве не прекрасна каждая травинка, наполненная пахучим соком, и каждое летучее семечко липы? Из него обязательно вырастет могучее дерево, и однажды тень от его листвы стремительно рванется от порывистого ветра и разбудит девушку, уснувшую в саду. И она медленно откроет глаза, полные свежей синевы и восхищения перед зрелищем поздней весны.
Да мало ли что увидишь у себя под ногами! Обо всем этом можно написать поты, рассказы и сказки — такие сказки, что люди будут только качать головами от удивления и говорить друг другу: «Откуда только взялся такой благословенный дар у этого долговязого сына башмачника из Оденсе? Должно быть, он все-таки колдун.!»
Но детей вводит в волшебный мир сказки не только народная поэзия, но и театр. Спектакль дети почти всегда принимают как сказку.
Яркие декорации, свет мастных ламп, бряцанье рыцарских доспехов, гром музыки, подобный грому сражения, слезы принцесс с синими ресницами, рыжебородые злодеи, сжимающие рукоятки зазубренных мечей, пляски девушек в воздушных нарядах — все это никак не походит на действительность и, конечно, может происходить только в сказке.
В Оденсе был свой театр. Там маленький Христиан впервые увидел пьесу с романтическим названием «Дунайская дева». Он был ошеломлен этим спектаклем и с тех пор стал ярым театралом на всю свою жизнь, до самой смерти.
Но на театр не было денег. И мальчик заменил подлитые спектакли воображаемыми. Он подружился с городским расклейщиком афиш Петером, начал помогать ему, а за это Петер дарил Христиану по одной афише каждого нового спектакля.
Христиан приносил афишу домой, забивался в угол и, прочитав название пьесы и имена действующих лиц, тут же выдумывал свою захватывающую дух пьесу, под тем же названием, которое стояло на афише.
Выдумывание это длилось по нескольку дней. Так создавался тайный репертуар детского воображаемого театра, где мальчик был автором и актером, музыкантом и художником, осветителем и певцом.
Андерсен был единственным ребенком в семье и, несмотря на бедность родителей, жил вольно и беззаботно. Его никогда не наказывали. Он занимался только тем, что мечтал. Это
обстоятельство даже помешало ему вовремя научиться грамоте: он одолел ее позже, чем все мальчики его возраста.
Больше всего времени Христиан проводил на старой мельнице на реке Оденсе. Мельница эта вся тряслась от старости, окруженная обильными брызгами и потоками воды. Зеленые бороды тяжелой тины свешивались с ее дырявых лотков. У берегов запруды плавали в ряске ленивые рыбы.
Кто-то рассказал мальчику, что прямо под мельницей, на другом конце земного шара, находится Китай и что китайцы довольно легко могут прокопать подземный ход в Оденсе и внезапно появиться на улицах заплесневелого датского городка в красных атласных халатах, расшитых золотыми драконами, и с изящными веерами в руках.
Мальчик долго ждал этого чуда, но оно почему-то не произошло.
Кроме мельницы, еще одно место в Оденсе привлекало маленького Христиана. На берегу канала была расположена усадьба старого отставного моряка. В своем саду моряк установил несколько маленьких деревянных пушек и рядом с ними — высокого, тоже деревянного, солдата.
Когда по каналу проходил корабль, пушки стреляли холостыми зарядами, а солдат палил в небо из деревянного ружья. Так старый моряк салютовал своим счастливым товарищам — капитанам, еще не ушедшим на пенсию.
Несколько лет спустя Андерсен попал в эту усадьбу уже студентом. Моряка не было в живых. Юного поэта встретил
среди цветочных клумб рой красивых и задорных девушек — внучек старого капитана.
Впервые тогда Андерсен почувствовал любовь к одной из этих девушек — любовь, к сожалению, безответную и туманную. Такими же были все увлечения женщинами, случавшиеся в его беспокойной жизни.
Христиан мечтал обо всем, что только могло прийти ему в голову. Родители же мечтали сделать из мальчика хорошего портного. Мать учила его кроить и шить. Но мальчик если что-либо и шил, то только пестрые платья из шелковых лоскутков для своих театральных кукол (у него уже был свой собственный домашний театр), а вместо кройки он научился виртуозно вырезать из бумаги замысловатые узоры и маленьких танцовщиц, делающих пируэты. Этим искусством он поражал всех даже в годы своей старости.
Умение делать прочные швы впоследствии пригодилось Андерсену. Он так перемарывал рукописи, что на них не оставалось места для поправок,— тогда Андерсен выписывал эти поправки на отдельных листках и тщательно вшивал их нитками в рукопись: ставил на ней заплатки.
Когда Андерсену исполнилось четырнадцать лет, умер его отец. Вспоминая об этом, Андерсен говорил, что всю ночь над умершим пел сверчок, в то время как мальчик всю ночь проплакал.
Так под песню запечного сверчка ушел из жизни застенчивый башмачник, ничем не замечательный, кроме того, что он подарил миру своего сына — сказочника и поэта.
Вскоре после смерти отца Христиан отпросился у матери и на жалкие сбереженные гроши уехал из Оденсе в столицу Копенгаген — завоевывать счастье, хотя он сам еще толком не знал, в чем оно заключается.
В сложной биографии Андерсена нелегко установить то время, когда он начал рассказывать свои первые прелестные сказки.
С раннего детства его память была полна разных волшебных историй, но отлежали под спудом. Юноша Андерсен считал себя кем угодно — певцам, танцором, декламатором, поэтом, сатириком и драматургом, но только не сказочником. Несмотря на это, отдаленный голос сказки давно слышался то в одном, то в другом из его произведетй, как звук чуть затронутой и тотчас же отпущенной струны.
Не помню, кто из писателей сказал, что сказки делаются из того же вещества, из которого состоят сны.
Во сне частности нашей реальной жизни свободно и причудливо соединяются во множестве комбинаций, как разноцветные стеклышки в калейдоскопе.
Ту работу, которую проводит во сне сумеречное сознание, во время бодрствования совершает наше безграничное воображение. Отсюда, очевидно, и возникла мысль о сходстве снов и сказок
Свободное воображение ловит в окружающей нас жизни сотни частностей и соединяет их в стройный и мудрый
рассказ. Нет ничего, чем пренебрег бы сказочник,— будь то горлышко пивной бутылки, капля росы на пере, потерянном иволгой, или заржавленный уличный фонарь. Любая мысль — самая могучая и великолепная — может быть выражена при дружеском содействии этих незаметных и скромных
Что толкнуло Андерсена в область сказки?
Сам он говорил, что легче всего писать сказки, оставаясь наедине с природой,«слушая ее голоо, особенно в то время, когда он отдыхал в лесах Зеландии, почти всегда окутанных неплотным туманом и дремлющих под слабым мерцанием звезд. Далекий ропот моря, долетавший в чашу этих лесов, придавал им таинственность.
Номы также знаем, что многие свои сказки Андерсен писал среди зимы, в разгар детских елочных праздников, и придавал им нарядную и простую форму, свойственную елочным украшениям.
Что говорить! Приморская зима, ковры снегов, треск огня в печах и сияние зимней ночи — все это располагает к сказке.
А может быть, толчком к тому, что Андерсен стал сказочником, послужил один случай в Копенгагене.
Маленький мальчик играл на подоконнике в старом копенгагенском доме. Игрушек было не так уж много — несколько кубиков, старая бесхвостая лошадь из папье-маше, много раз уже выкупанная и потому потерявшая масть, и сломанный оловянный солдатик.
Мать мальчика, молодая женщина, сидела у окна и вышивала.
В это время в глубине пустынной улицы со стороны Старого порта, где усыпляюще и монотонно покачивались в небе реи кораблей, показался высокий и очень худой человек в черном. Он быстро шел несколько скачущей, неуверенной походкой, размахивая длинными руками, и говорил сам с собой.
Шляпу он нес в руке, и потому был хорошо виден его большой покатый лоб, орлиный тонкий нос и серые сощуренные глаза.
Он был некрасив, но изящен и производил впечатление иностранца. Душистая веточка мяты была воткнута в петлицу его сюртука.
Если бы можно было прислушаться к бормотанию этого незнакомца, то мы бы услышали, как он чуть нараспев читал стихи:
Я сохранил тебя в своей груди,
О роза нежная моих воспоминаний_
Женщина за пяльцами подняла голову и сказала мальчику:
— Вот идет наш поэт, господин Андерсен. Под его колыбельную песню ты так хорошо засыпаешь.
Мальчик посмотрел исподлобья на незнакомца в черном, схватил своего единственного хромого солдатика, выбежал на улицу, сунул солдатика в руку Андерсена и тотчас убежал.
Это был неслыханно щедрый подарок, и Андерсен понял это. Он воткнул солдатика в петлицу сюртука рядом с
точкой мяты — как драгоценный орден, потом вынул платок и слегка прижал его к глазам,— очевидно, недаром друзья обвиняли его в чрезмерной чувствительности.
А женщина, подняв голову от вышивания, подумала: как хорошо и вместе с тем трудно было бы ей жить с этим поэтом, если бы она могла полюбить его. Вот, говорят, что даже ради молодой певицы Иенни Линд, в которую он был влюблен — все звали ее «ослепительной Иенни»,—Андерсен не захотел отказаться ни от одной из своих поэтических привычек и выдумок.
А этих выдумок было много. Однажды он даже придумал прикрепить к мачте рыбачьей шхуны эолову арфу, чтобы слушать ее жалобное пение во время угрюмых северо-западных ветров, постоянно дующих в Дании.
Андерсен считал свою жизнь прекрасной, но, конечно, лишь в силу детской своей жизнерадостности. Эта незлобивость по отношению к жизни обычно бывает верным признаком внутреннего богатства. Таким людям, как Андерсен, нет охоты растрачивать время и силы на борьбу с житейскими неудачами, когда вокруг так явственно сверкает поэзия,— и нужно жить только в ней, жить только ею и не пропустить то мгновение, когда весна прикоснется губами к деревьям. Как бы хорошо никогда не думать о житейских невзгодах! Что они стоят по сравнению с этой благодатной, душистой, ослепляющей весной!
Андерсену хотелось так думать и так жить, но действительность совсем не была милостива к нему.
Было много, слишком много огорчений и обид, особенно в перше годы в Копенгагене, в годы нищеты и пренебрежительного покровительства со стороны признанных поэтов, писателей и музыкантов.
Слишком часто, даже в старости, Андерсену давали понять, что он «бедный родственник» в датской литературе и что ему — сыну сапожника и бедняка — следует знать свое место среди господ советников и профессоров.
Андерсен говорил, что за свою жизнь он выпил не одну чашу горечи. Его замалчивали, на него клеветали, над ним насмехались. За что?
За то, что в нем текла *мужицкая кровь», что он не был похож на спесивых и благополучных обывателей, за то, что он был истинным поэтом «божьей милостью», был беден — и, наконец, за то, что он неумел жить.
Неумение жить считалось самым тяжким пороком в филистерском обществе Дании. Андерсен был просто неудобен в этом обществе — этот чудак, этот, по словам философа Киркегора, оживший смешной поэтический персонаж, внезапно появившийся из книги стихов и навсегда забывший секрет, как вернуться обратно на пыльную полку библиотеки.
«Все хорошее во мне топтали в грязь»,— говорил о себе Андерсен. Говорил он и более горькие вещи, сравнивая себя с тонущей собакой, в которую мальчишки швыряют камни, но не из злости, а ради пустой забавы.
Да, жизненный путь этого человека, умевшего видеть по ночам тихое сияние шиповника и слышать воркотню старого пня в лесу, не был усыпан венками.
Андерсен часто страдал, страдал жестоко, и можно только преклоняться перед мужеством этого человека, не растерявшего на своем житейском пути ни доброжелательства к людям, ни жажды справедливости, ни способности видеть поэзию всюду, где она есть.
Он страдал, но он не покорялся. Он часто негодовал. Он гордился своей кровной близостью к беднякам — крестьянам и рабочим. В «Союзе рабочих» он первый из датских писателей начал читать рабочим свои удивительные сказки.
Он становился ироничен и беспощаден, когда дело касалось пренебрежения к простому человеку, несправедливости и лжи. Рядом с детской сердечностью в нем жил едкий сарказм. С полной силой он выразил его в своей великой сказке о голом короле.
Когдаумер скульптор Торвальдсен, сын бедняка, то Андерсену была невыносима мысль, что за гробом великого мастера впереди всех будет напыщенно шествовать датская знать.
Андерсен написал кантату на смерть Торвальдсена. Он собрал на похороны детей бедняков со всего Копенгагена. Дети шли цепью по сторонам похоронной процессии и пели кантату Андерсена, начинавшуюся словами:
Дорогу дайте к гробу беднякам,—
Из их среды почивший вышел сам.
Андерсен писал о своем друге поэте Ингемане, что тот разыскивал семена поэзии на крестьянской земле. С гораздо большим правом эти слова относятся к самому Андерсену. Он собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у своего сердца, сеял в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали невиданные и великолепные цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков.
Были у Андерсена целые годы душевной путаницы и мучительных поисков своей настоящей дороги. Сам Андерсен долго не знал, какие области искусства сродни его таланту.
«Как горец вырубает ступеньки в гранитной скале,— говорил о себе под старость Андерсен,— так я медленно и тяжело завоевывал свое место в литературе».
Он толком не знал своей силы, пока поэт Ингеман не сказал ему шутя: «Вы обладаете драгоценной способностью находить жемчуг в любой сточной канаве».
Эти слова открыли Андерсену самого себя.
И вот — на двадцать третьем году жизни — первая подлинно андерсеновская книга «Прогулка на остров Амагер». В этой книге Андерсен решил, наконец, выпустить в мир «пестрый рой своих фантазий».
Первый легкий трепет восхищения перед неведомым до тех пор поэтом прошел по Дании. Будущее становилось ясным.
На первый же скудный гонорар от своих книг Андерсен устремился в путешествие по Европе.
Беспрерывные поездки Андерсена можно с полным правом назвать путешествиями не только по земле, но и по своим великим современникам: потому что, где бы Андерсен ни был, он всегда знакомился со своими любимыми писателями, поэтами, музыкантами и художниками.
Такие знакомства Андерсен считал не только естественными, но просто необходимыми. Блеск ума и таланта великих современников Андерсена наполнял его ощущением свежести и собственной силы.
И в этом длительном светлом волнении, в постоянной смене стран, городов, народов и попутчиков, в волнах«дорожной поэзии», в удивительных встречах и не жнее удивительных размышлениях прошла вся жизнь Андерсена.
Он писал всюду, где его заставала жажда писать. Кто сочтет, сколько царапин оставило его торопливое перо на оловянных чернильницах в гостиницах Рима и Парижа, Афт и Константинополя, Лондона и Амстердама!
Я сознательно упомянул о торопливом пере Андерсена. Придется на минуту отложить рассказ об его путешествиях, чтобы объяснить это выражение.
Андерсен писал быстро, хотя потом долго и придирчиво правил свои рукописи.
Писал он быстро потому, что обладал даром импровизации. Андерсен был чистейшим образцом импровизатора. Бесчисленные мысли и образы роились у него во время работы. Нужно было спешить, чтобы записать их, пока они еще не
ускользнули из памяти, не погасли и не скрылись из глаз. Нужно было обладать необыкновенной зоркостью, чтобы ловить на лету и закреплять те картины, что вспыхивали и мгновенно гасли, как ветвистый узор молнии на грозовом
Импровизация — это стремительная отзывчивость поэта на любую чужую мысль, на любой толчок извне, немедленное превращение этой мысли в потоки образов и гармонических картин. От возможна лишь при огромном запасе наблюдений и великолепной памяти.
Свою повесть об Италии Андерсен тписал как импровизатор. Поэтому он и назвал ее этим словом — «Импровизатор». И, может быть, глубокая и почтительная любовь Андерсет к Гейне объяснялась отчасти тем, что в немецком поэте Андерсен видел своего собрата по импровизации.
Но вернемся к путешествиям Христиат Андерсена.
Первое путешествие он совершил по Каттегату, заполненному сотнями парусных кораблей. Это была очень веселая поездка. В то время в Каттегате появились первые пароходы — «Дания» и «Каледония». От вызвали целый ураган негодования среди шкиперов парусных кораблей.
Когда пароходы, шдымив на весь пролив, смущенно проходили сквозь строй парусников, их подвергали неслыханным насмешкам и оскорблениям. Шкиперы посылали им в рупор самые отборные проклятья. Их обзывали «трубочистами», «дымовозами», «копчеными хвостами» и «вонючими лохан-
камш. Эта жестокая морская распря очень забавляла Андерсена.
Но плавание по Каттегату было не в счет. После него начались настоящие путешествия Андерсена. Он много раз объездил всю Европу, был в Малой Азии и даже в Африке.
Он познакомился в Париже с Виктором Гюго и великой артисткой Рашель, беседовал с Бальзаком, был в гостях у Гейне. Он застал немецкого поэта в обществе молоденькой прелестной жены-парижанки, окруженной кучей шумных детей. Заметив растерянность Андерсена (сказочник втайне побаивался детей), Гейне сказал:
— Не пугайтесь. Это не наши дети. Мы их занимаем у соседей.
Дюма водил Андерсена по дешевым парижским театрам, а однажды Андерсен видел, как Дюма писал свой очередной роман, то громко ссорясь с его героями, то покатываясь от хохота.
Вагнер, Шуман, Мендельсон, Россини иЛист играли для Андерсена свои вещи. Листа Андерсен называл «духом бури над струнами».
В Лондоне Андерсен встретился с Диккенсом. Они пристально посмотрели друг другу в глаза. Андерсен не выдержал, отвернулся и заплакал. То были слезы восхищения перед великим сердцем Диккенса.
Потом Андерсен был в гостях у Диккенса, в его маленьком доме на взморье. Во дворе заунывно играл шарманщик итальянец,
за окнам в сумерках блестел огонь маяка; мимо дома проплывали, выходя из Темзы в море, неуклюжие пароходы, а отдаленный берег реки, казалось, горел, как торф,- то дымили лондонские заводы и доки.
— У нас полон дам детей,- сказал Диккенс, хлопнул в ладоши, и тотчас несколько мальчиков и девочек, сыновей и дочерей Диккенса, вбежали в комнату, окружили Андерсена и расцеловали его в благодарность за сказки.
Но чаще всего и больше всего Андерсен бывал в Италии.
Рим стал для него, как и для многих писателей и художников, второй родиной.
Однажды, по пути в Италию, Андерсен проезжал в дилижансе через Швейцарию.
Была весенняя ночь, полная крупных звезд. В дилижанс село несколько деревенских девушек Было так темно, что пассажиры не могли рассмотреть друг друга. Но, несмотря на это, между ними начался шутливый разговор. Да, было так темно, что Андерсен заметил только, как поблескивали влажные зубы девушек
Он начал рассказывать девушкам о них самих. Он говорил о них, как о прекрасных сказочных принцессах. Он увлекся. Он восхвалял их зеленые загадочные глаза, душистые косы, рдеющие губы и тяжелые ресницы.
Каждая девушка была по-своему прелестна в описании Андерсена и по-своему счастлива.
Девушки смущенно смеялись, но, несмотря на темноту, Андерсен заметил, как у некоторых из них блестели на глазах слезы,— то были слезы благодарности доброму и странному попутчику.
Одна из девушек попросила Андерсена, чтобы он описал им самого себя.
Андерсен был некрасив. Он знал это. Но сейчас он изобразил себя стройным, бледным и обаятельным молодым человеком, с душой, трепещущей от ожидания любви.
Наконец, дилижанс остановился в глухом городке, куда ехали девушки. Ночь стала еще темнее.Девушки расстались с Андерсеном, причем каждая горячо и нежно поцеловала на прощаньеудивительного незнакомца.
Дилижанс тронулся. Лес шумел за его окнами. Фыркали лошади, и низкие, уже итальянские, созвездия пылали над головой. Андерсен был счастлив так, как, может быть, еще никогда не был счастлив в жизни. Он благословлял дорожные неожиданности, мимолетные и милые встречи.
Италия покорила Андерсена Он полюбил в ней все: каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые мраморные фасады зданий, оборванных смуглых детей, померанцевые рощи, «отцветающий лотос» — Венецию, статуи Латерана, осенний воздух, холодноватый и пьянящий, мерцание куполов над Римом, старинные холсты, ласкающее солнце и то множество плодотворных мыслей, которые рождала Италия в его сердце.
Умер Андерсен в 1875 году.
Несмотря на частые невзгоды, ему выпало на долю подлинное счастье быть обласканным своим народом.
Я не перечисляю тут всего, что написал Андерсен. Вряд ли это нужно. Я хотел только набросать беглый облик этого поэта и сказочника, этого обаятельного чудака, оставшегося до самой своей смерти чистосердечным ребенком, этого вдохновенного импровизатора и ловца человеческих душ — и детских и взрослых.
Он был поэтом бедняков, несмотря на то, что короли считали за честь пожать его сухощавую руку.
Он был народным певцом. Вся его жизнь свидетельствует о том, что сокровища подлитого искусства заключены только в сознании народа и нигде больше.
Поэзия насыщает сердце народа подобно тому, как мириады капелек влаги насыщают воздух Дании. Поэтому, говорят, нигде нет таких широких и ярких радуг, как там.
Пусть же эти радуги почаще сверкают, как многоцветные триумфальные арки, над могилой сказочника Андерсена и над кустами его любимых белых роз.
К. Паустовский
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.




 3 оценок, среднее: 3,67 из 5
3 оценок, среднее: 3,67 из 5 9025 просмотров
9025 просмотров